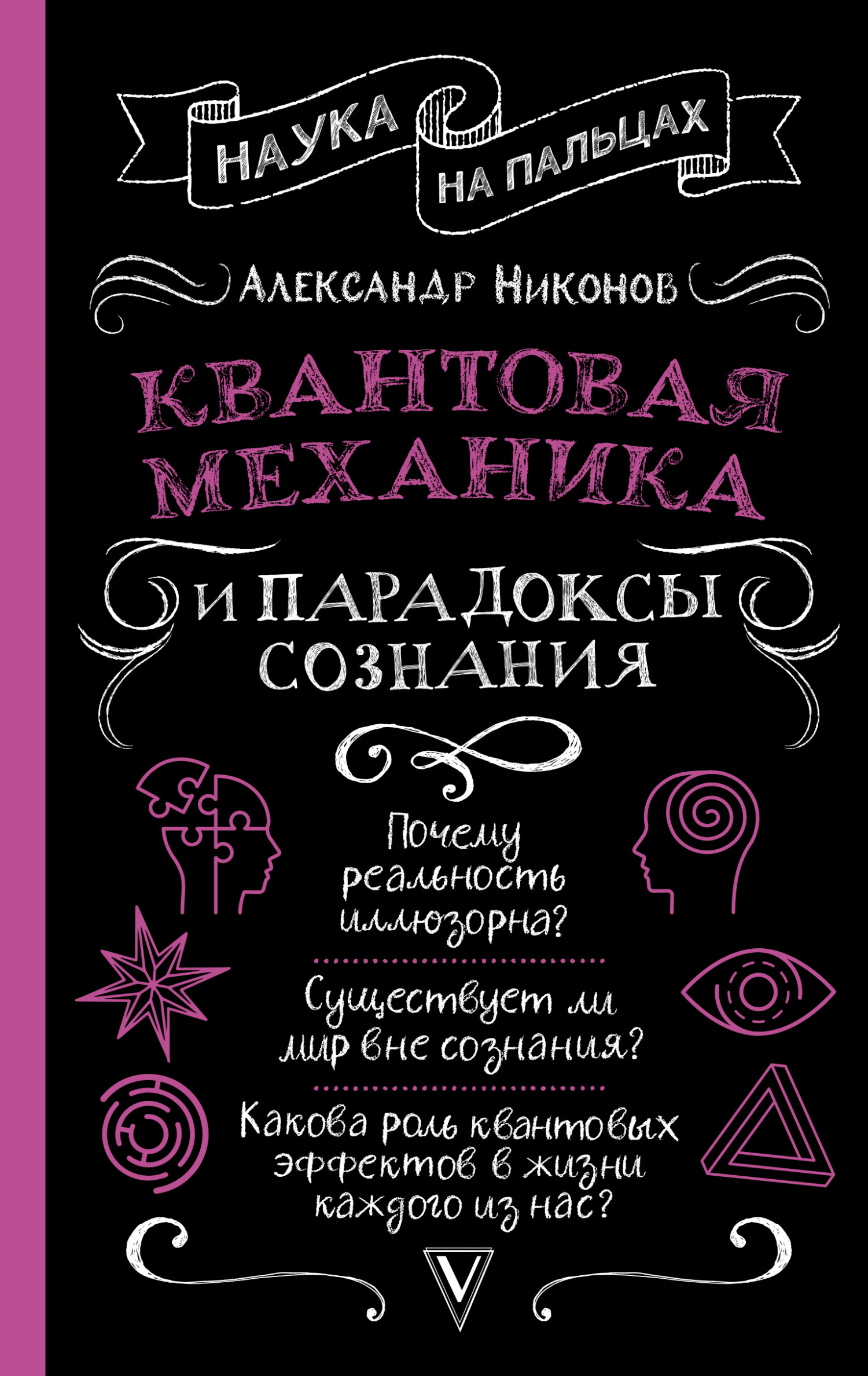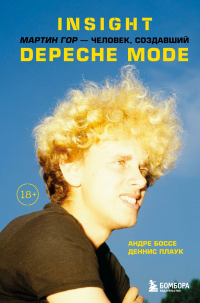Шрифт:
Закладка:
Александр – бывший полицейский детектив из Нью-Йорка, который не может забыть трагедию, случившуюся во время его службы. Одним выстрелом он спас шестнадцать тысяч человек от террориста, но также убил невинную девочку и вызвал выкидыш у ее беременной матери. Суд оправдал его, но совесть не дает покоя. Отправленный на лечение к психологу, Александр не находит облегчения и узнает о смерти своего отца в России. Он решает поехать на похороны и продолжить терапию в Москве по совету своего психолога. Но вместо этого он становится участником загадочного эксперимента по исследованию искусственного интеллекта – «Теста Тьюринга». Что скрывается за этим названием? Кто контролирует процесс? И как это связано с его прошлым? Александр попадает в ловушку, из которой нет выхода, и должен столкнуться со своими страхами, сомнениями и врагами.
Если вам понравилась эта аннотация, вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Там вы найдете много других интересных книг разных жанров и авторов.