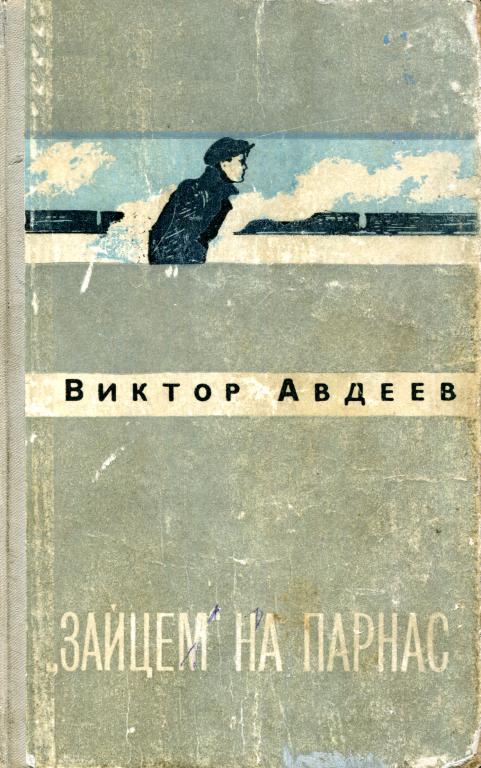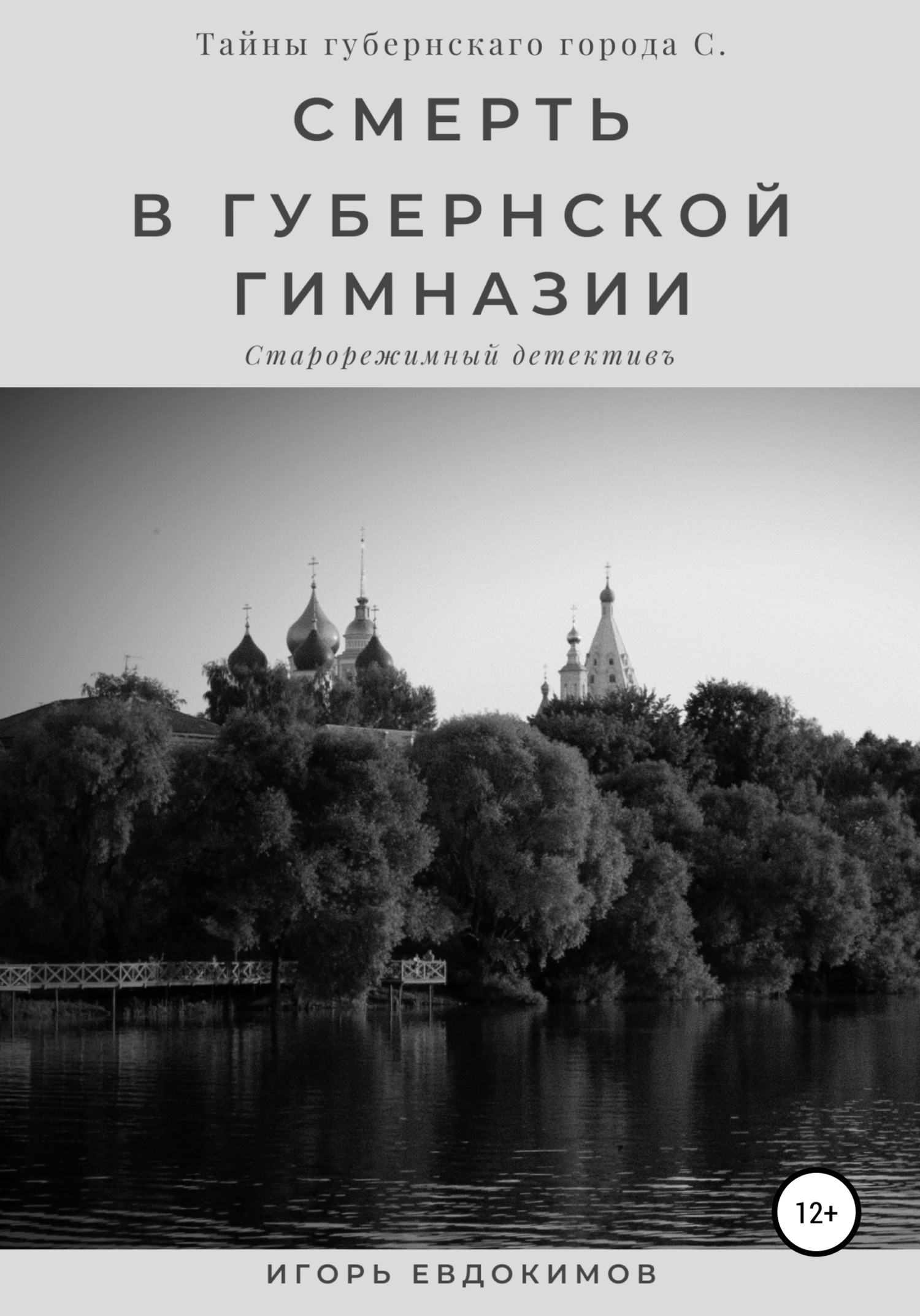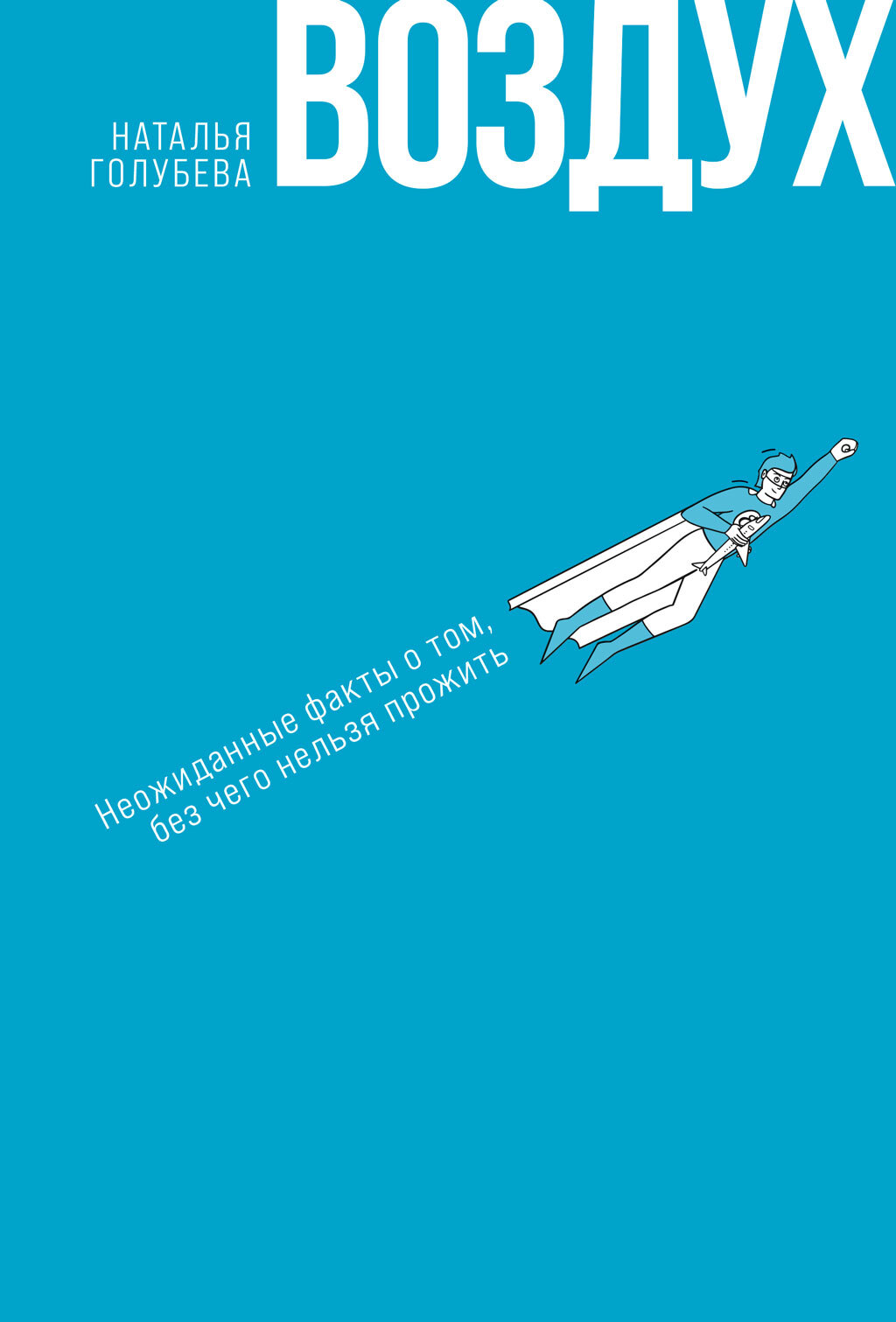Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник Виктора Авдеева включает ряд произведений, различных по тематике и жанру, написанных в разное время. В автобиографической повести «Зайцем» на Парнас» автор рассказывает о своем долгом и трудном пути из беспризорников в писатели. Не «зайцем», конечно, проник он на «Парнас», его появлению там предшествовали и большой труд, преданность призванию, порою срывы, ошибки и разочарования. В сборник входит цикл рассказов о Великой Отечественной войне, патриотизме, мужестве, верности, преданности своему народу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Федорович Авдеев»: