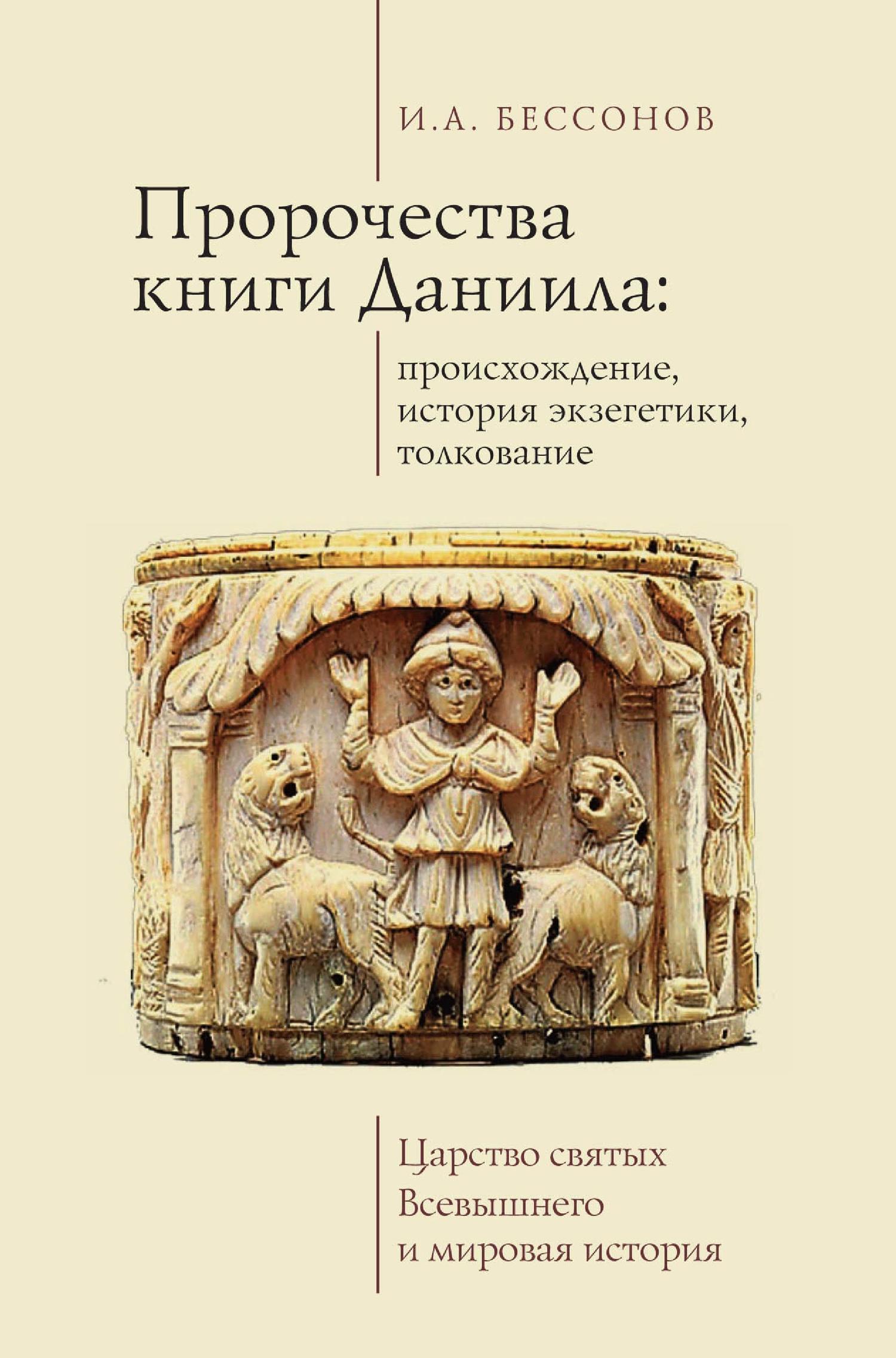Шрифт:
Закладка:
Легендарный советский разведчик и диверсант Павел Судоплатов выполнял различные секретные поручения Сталина. С ноября 1938 года по июнь 1942 года он был одним из руководителей отечественной внешней разведки. С января 1942 года – начальник Четвертого управления НКВД-НКГБ (разведка и диверсии в тылу противника). С февраля 1944 года (одновременно со своими прочими обязанностями) – начальник группы (позже – отдел) «С», которая занималась агентурным добыванием и обобщением материалов по атомной проблематике. В первой половине девяностых годов он написал подробные и откровенные воспоминания об этом периоде своей жизни: «Разные дни тайной войны и дипломатии» (период с 1938 года по 1942 год) и «Победа в тайной войне» (1942–1945 годы). Книги были изданы спустя пять лет после смерти автора – в 2001 году. В новое коллекционное издание «Вторая мировая война. Хроника тайной войны и дипломатии» включены оба произведения автора. Оно иллюстрировано малоизвестными фотографиями того времени. Они позволяют по-новому взглянуть на то, о чем рассказал автор.