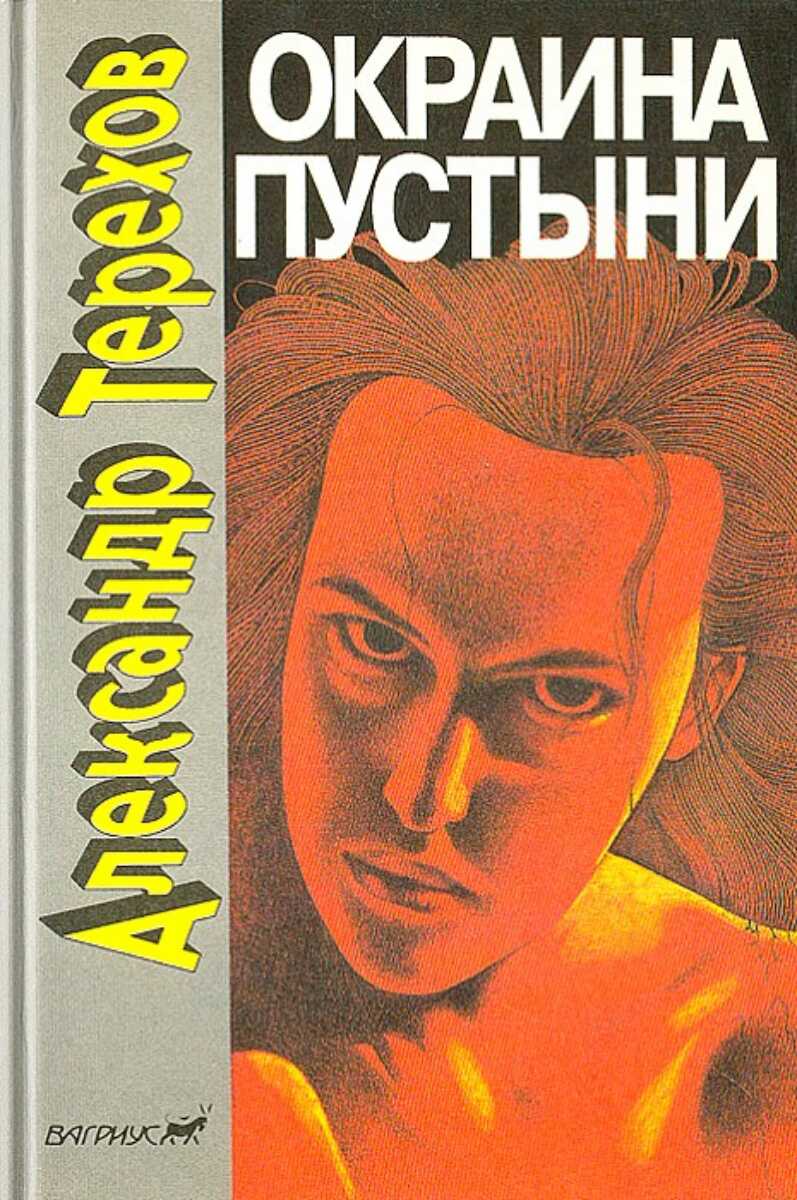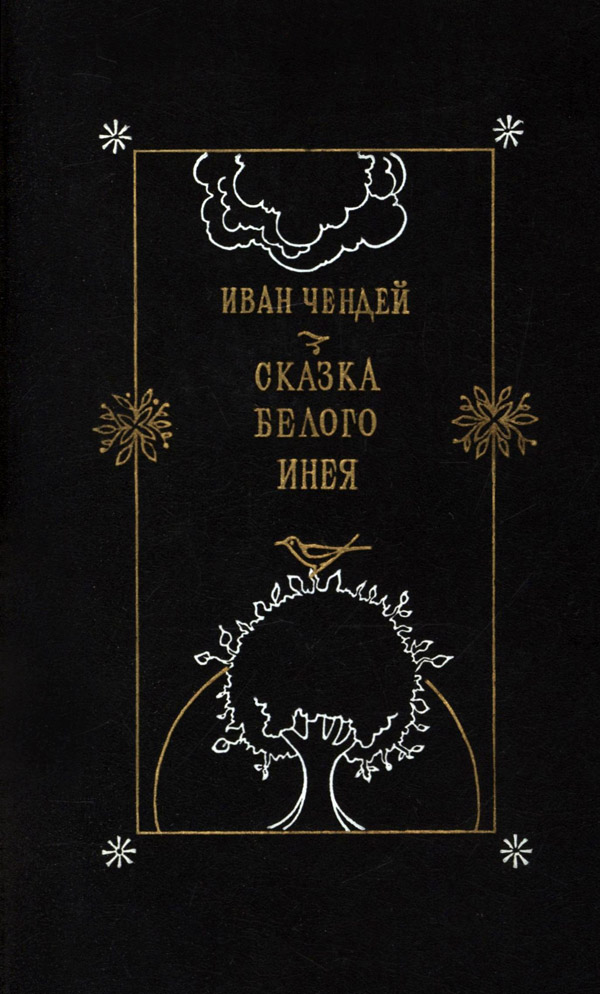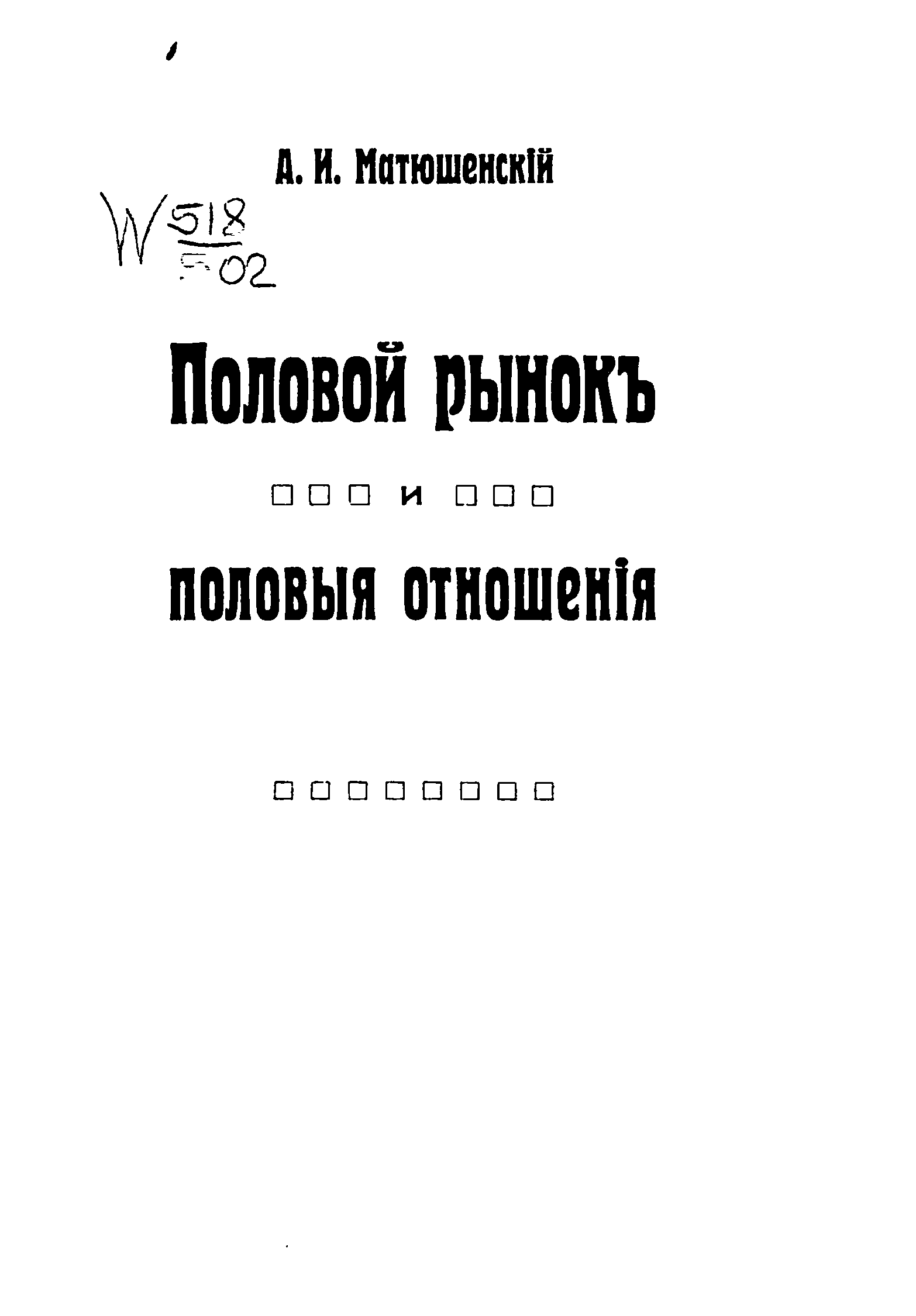Шрифт:
Закладка:
Повесть «Зимний день начала новой жизни» об одном дне из жизни московского студента — мечтателя и философа. В окружающей действительности его тяготит буквально всё — от домогательств комендантши общежития и нудной учёбы до криминальных занятий соседей. Особенно же беспокоят ужасные крысы, которые преследуют героя повсюду... по крайней мере, он в этом уверен. Попытка начать новую жизнь оборачивается встречей с очаровательной девушкой, которая, впрочем, вскоре оказывается представительницей первой древнейшей профессии. С этого момента события окончательно приобретают авантюрно-криминальный характер, ведущий к предсказуемой развязке. Автор искусно владеет прихотливым, несколько вычурным языком, создаёт запоминающиеся образы и дозированно разбавляет повествование мрачноватым юмором. Повесть «Мемуары срочной службы» в иной форме и на ином — армейском — материале поднимает тему нивелировки, порабощения личности. После публикации первых рассказов об армии, общее собрание части, где служил автор, направило в Главное политуправление СА и ВМФ документ, в котором Терехов характеризовался как "игнорирующий требования командиров и общественную необходимость". Критики придерживаются иного мнения: "Главное преимущество его прозы - глубокое проникновение в суть привычных явлений при внешней легкости, ажурности стиля, трепетном внимании к любой детали".