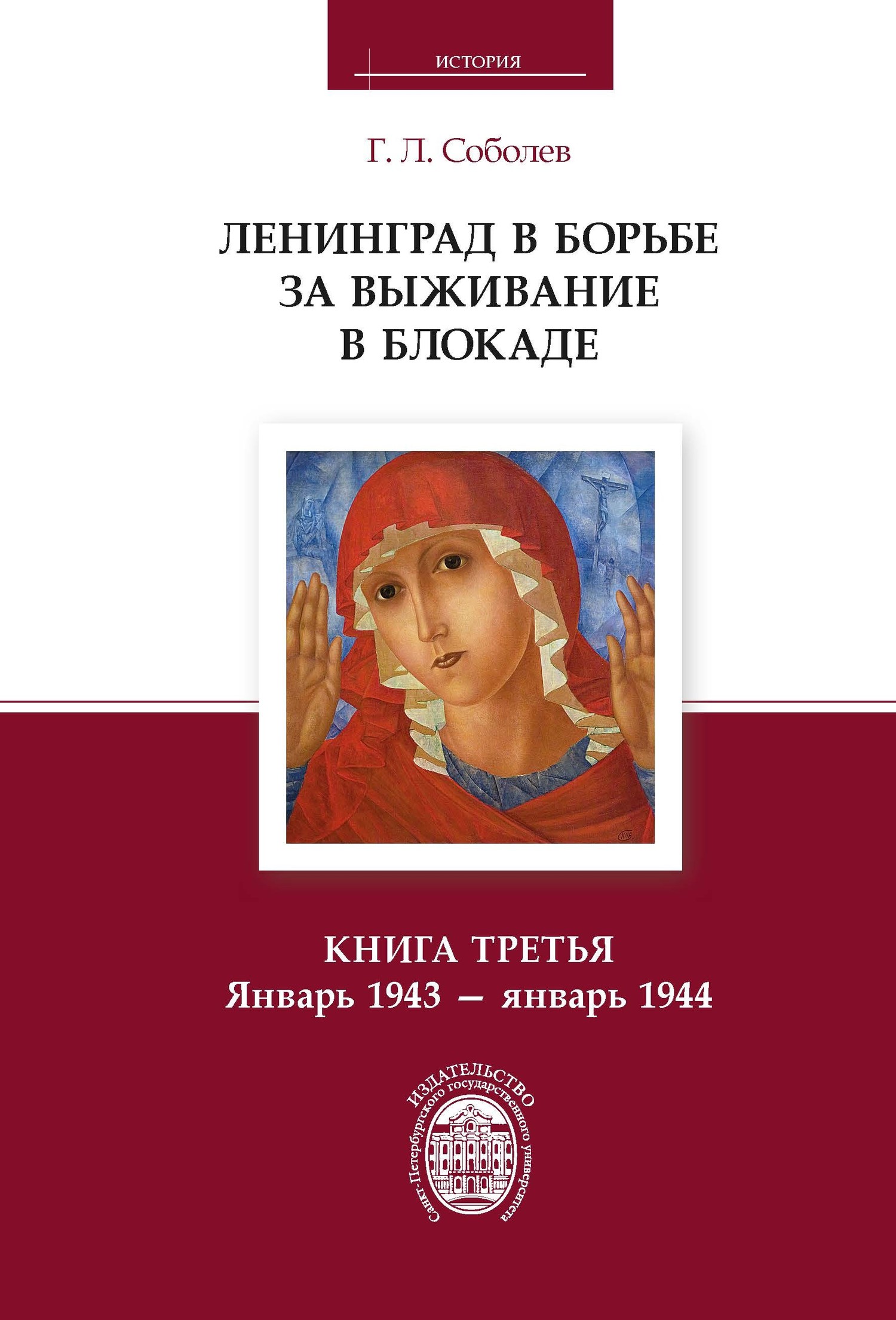Шрифт:
Закладка:
Папуша выступил шестым. Как всегда, выжидал, не придется ли давать отповедь, если кто скажет в его адрес что-нибудь не так. Говорил общо, но директивным тоном. И что часто случается с руководящими, вышел за пределы отведенных для прений десяти минут. Прошло пятнадцать, двадцать минут…
— Регламент, — послышалось в зале.
— Регламент соблюдать надо, товарищ директор! — совсем уже нетерпеливо крикнула Вишня.
Пэ в кубе развел руками — как, мол, угодно, и начал спускаться по ступенькам со сцены.
— У меня вопрос, — остановил его чей-то голос. — Скажите, товарищ директор, когда в конце концов наладят вентиляцию в отбелочном?
Стоит задать вопрос одному, а там уж второй, третий… О нарушениях администрацией некоторых пунктов колдоговора. О неправильном распределении квартир, об очистных сооружениях — ведь СЭС[6] штрафует: Таборная слободка — не только комбинат, здесь и жилые дома.
— Товарищи, — рука председателя собрания закачалась как маятник, — отчитывается сегодня не директор, а партийный комитет. Давайте по существу…
— Но директор член парткома! — вмешался инструктор райкома, сидевший в первом ряду.
— К слову сказать, за что вы, Павел Павлович, — не унимается Вишня, — лишили фильерщиц прогрессивки? Почему целый месяц не отвечаете на их жалобу?
— Значит, не успел. Разбираемся. Жалоб много…
— Много жалоб? — перебил его Шеляденко. И помедлил, дав уняться поднявшемуся шуму. — Цэ свидетельствует про тэ, що у нас на комбинати нэ благополучно. Москва и та через десять днив отвечает.
По мнению Папуши, на все вопросы он дал веские ответы. Соглашаться с ними или не соглашаться — дело персонально каждого. Но в интонациях выступавших прозвучало что-то обидное, колкое. Или почудилось? Успокоился лишь после того, как в числе других в состав партийного комитета назвали и его кандидатуру.
Никто против включения директора в список и слова не сказал. А подсчитали голоса — оказалось, что он, директор комбината, забаллотирован: большинство вычеркнуло его фамилию в бюллетенях.
Папуша весь поджался, на глазах становился вроде бы меньше и меньше.
— Ничего, Колосов, не попишешь: бывают курьезы, — бодрился он, возвращаясь в заводоуправление.
— Не курьезы — воля масс, — коротко ответил Николай.
Сгустившиеся тучи тревожили Пэ в кубе: результаты выборов завтра же станут достоянием горкома партии.
Со дня на день ждал он, что его пригласят для разговора. Но минула неделя, другая, третья… Почему-то не вызывали. И это тревожило еще больше.
Глава XX
Если жизнь земского врача Зборовского была в санях да в телеге, часы профессора Зборовского слишком чаете похищал самолет. В министерстве, учитывая его возраст, каждый раз извинялись: «Простите, что беспокоим. Но ваше присутствие необходимо… Конференция… Съезд… Симпозиум…»
Из клиники он ушел. Оставаться научным руководителем отказался: зачем сковывать молодых? Нет в нем ревности к поросли, набирающей силы. Заканчивал монографию «Ревматизм и тонзиллит».
Неприглядны комнаты, где картины и люстры затянуты марлей, газетами, где все отдает запахом нафталина. Николай застал Сергея Сергеевича у газовой плиты. Вера Павловна уехала в Ленинград: Инна сняла дачу на Карельском перешейке, но отдыхать там одна не хочет — Игорька взяли в армию.
На кухонном столе в бумажных пакетиках — сыр, колбаса. На сковородке шипит эскалоп. Толстый, с подковкой белого жира.
— На самообслуживание перешел, профессор? Нечего сказать, диета! Хлеба купить, конечно, забыл?
Николай сбегал в булочную. По пути взял в «гастрономе» — редко встретишь — маринованные кабачки, которые Сергей Сергеевич очень любит.
Отец пересел на диван. Брюки у его колен вздулись. Всунул ноги в мягкие серые тапки. По тому, как словоохотлив, видно, что много за день успел и дружеская беседа для него разминка.
— Ну как твой Пэ в кубе?
— Списан, как морально устаревший станок. Снят с директоров… Ждем замены.
— Куда же Папуша теперь?
— Без места не останется. А у тебя что нового, отец?
— Да ничего. Боюсь, что профилирование специальностей скоро у нас достигнет такой степени, что терапию растащат начисто. Не получилось бы, как в дурацком анекдоте. Подавился человек костью, пришел к ларингологу, тот нажал пальцем на горло — кость проскочила в желудок: «Идите к хирургу». А хирург: «Почему ко мне?» Нажал на живот — кость проскочила обратно в пищевод: «Не моя специальность — идите к ларингологу»…
Вдруг происходит доселе небывалое — отец на полуслове умолкает, веки смыкаются, челюсть отвисла — дремлет.
Потом очнулся:
— На чем я остановился? Так вот…
— Устал, отец? Приляг.
— Это не усталость. Это старость. Препротивнейшая штука! Древние римляне говорили: старость — Этна, взваленная на плечи… Пойдем, Николай. — Встал и тут же пригнулся, будто в самом деле груз на спине.
Июньский вечер вытащил всех, кого смог. На улице — вереницы гуляющих. Впервые Сергей Сергеевич шел к запретному для него дому в Таборной слободке. От автобусной остановки, у которой высадились, всего лишь квартал, а он пройдет чуть-чуть, остановится и разглядывает витрину, хотя в ней ничего для него интересного.
Снова мелко зашагает, и снова останавливаемся, не праздного любопытства ради — выжидает, пока утихнут боли в сердце.
Впервые открылась перед ним дверь квартиры, где все эти годы жила она. Здравый смысл подсказывал: жила здесь уже не та восемнадцатилетняя Даша, какой помнил ее. А воображение упрямо рисовало русые волосы, голубизну настороженных глаз, горячий сполох румянца.
На стене под стеклом любительские фотографии. Это Ольга на берегу реки в широкополой соломенной шляпе. А это Николай, замурованный по пояс в песок. Снова Ольга, загорелая, вокруг шеи горжеткой разлегся пушистый кот. А вот большим планом морда того же кота, шерсть вздыблена, лапа на телефоне.
Портрета той, которая столько лет незримо шла рядом с ним, Сергей Сергеевич не увидел: фотографию матери Николай успел снять, припрятать. Почему так охотно пишут и говорят о любви молодых? И забывают о мире чувств стариков: в годы осени их радости, их страдания звучат с не меньшей, если не с большей силой.
— Заметила, какой он бледный, худой? — обеспокоенно спросил Николай Ольгу после ухода Сергея Сергеевича.
— Ему нужно как следует отдохнуть. Уговори его прервать работу над книгой.
— Ну что ты, не согласится. Он из тех, кто кряхтит, кряхтит, но до места воз довезет.
— А ты попробуй сманить его в Комаровку, — вмешался Толик. Студент-медикус втайне мечтал стать похожим на деда-профессора.
Стоя в тамбуре с перекинутым через плечо плащом, Сергей Сергеевич жадно вдыхал медовый