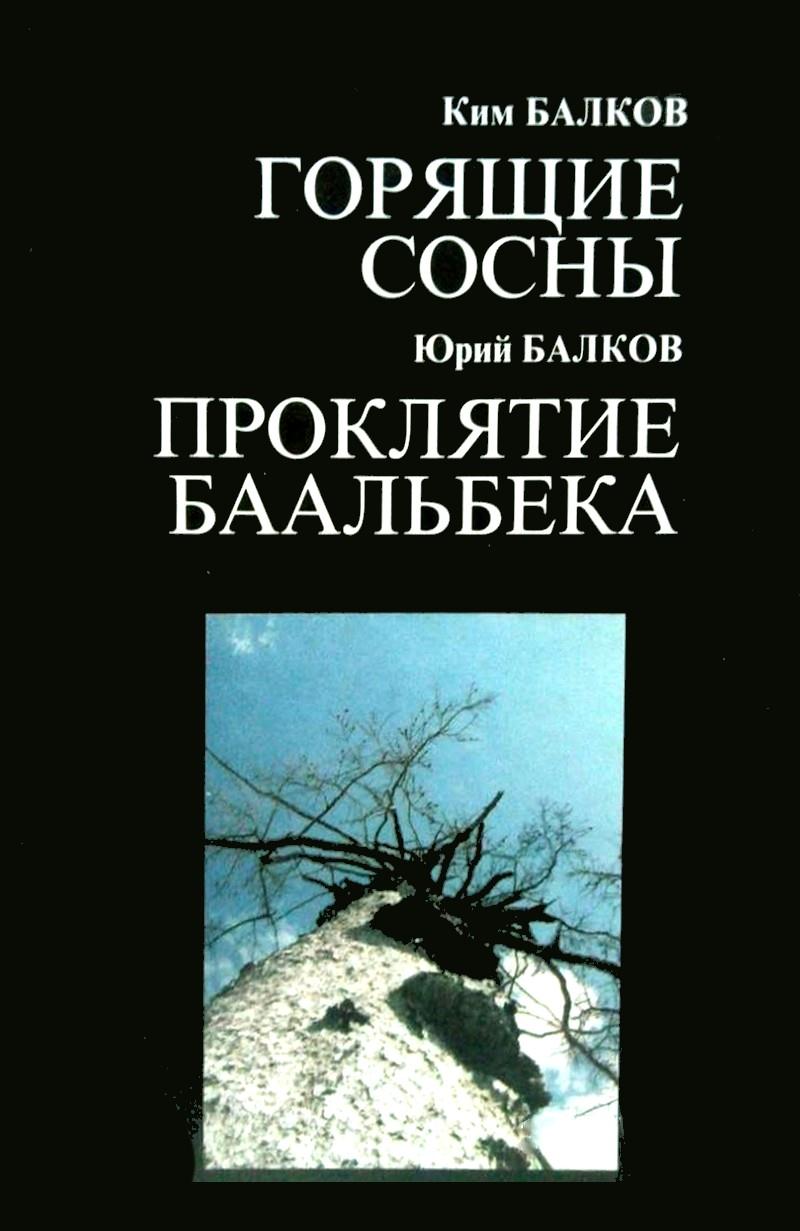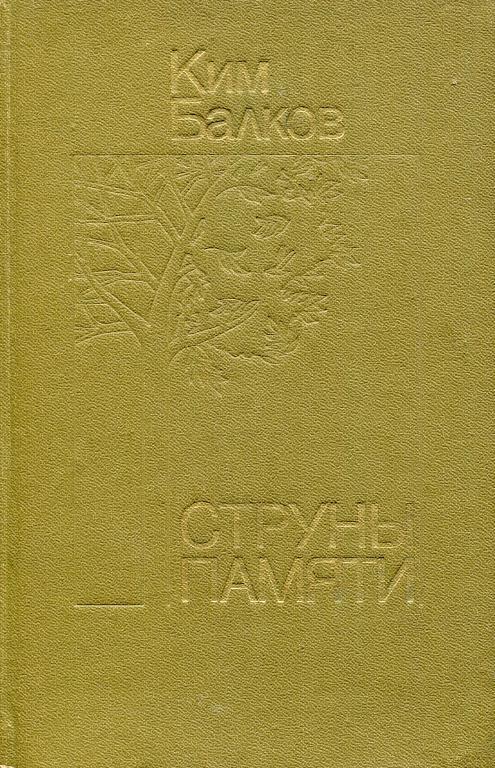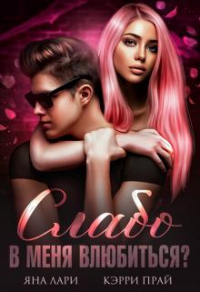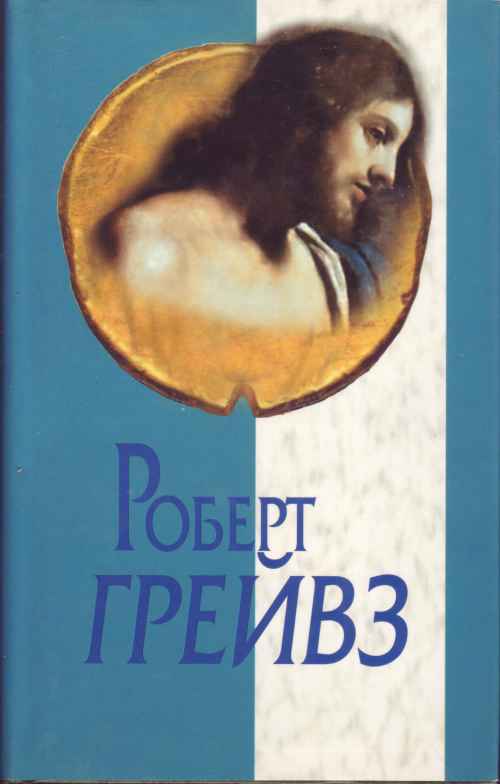Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман о трагической и вместе с тем прекрасной истории Сибири через века, от вхождения ее в состав России до середины XX века.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ким Николаевич Балков»: