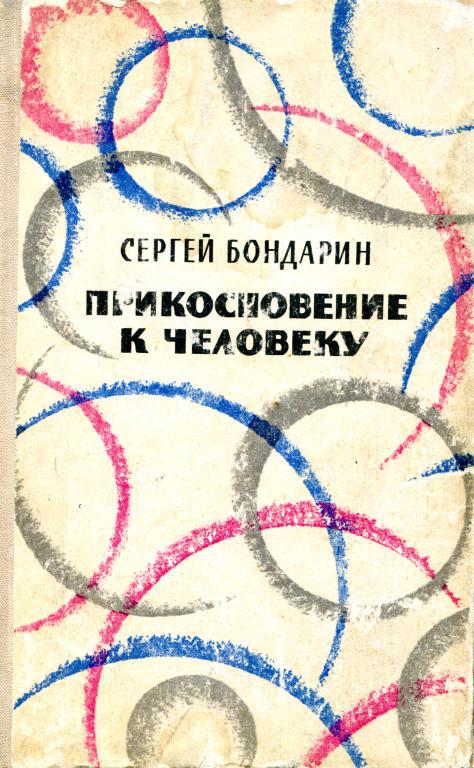Шрифт:
Закладка:
Мой сын, я сейчас закончу!
Я прошел через двор, как праведник, изгоняемый невежеством сограждан, я прошел в стороне от играющих во дворе детей. Дома я оставил письмо:
«Дорогой папочка!
Я лучше не вернусь. Вчера я держал одну девочку, потому что она хотела сделать со мной мертвую петлю, а когда держал и потом, когда спал, со мной случилось то, что бывает с взрослыми. Мне рассказывали об этом мальчики еще на Арнаутской. Я думаю, что ты не захочешь теперь жить вместе со мной.
А если ты захочешь, мне, наверно, будет стыдно.
Ты все-таки оставь у Дорофея записку: да или нет.
У меня есть знакомый рыбак, и он отвезет меня в Болгарию. В Болгарии теперь берут мальчиков солдатами.
Я думаю, что теперь лучше вам вместе с мамой. Ты еще подумай.
Крепко тебя в прощальный раз целую.
Ту записку, что ты оставил для Дорофея, я отнесу и деньги взял тоже».
Так думал я поступить, но немножко лукавил. Я, собственно, бежал от Наты, в ее близости предполагая причину не отпускающего меня возбуждения. Меня влекло к раскрытию тайны, обнаружившей лишь свою первую половину. Сладостное воспоминание влекло меня к повторению причин, и я вновь бежал от преследования.
Я пришел на постройку, ища Дорофея.
Известь и камень накалялись, как хранилище солнца.
Здесь я видел употребление земли и камня, руки бородатых каменщиков, пьяных маляров и веселых плотников, а теперь я ждал Дорофея, на этот раз безучастный к зрелищу, визгам и хохоту постройки. Рыбак, который должен был отвезти меня в Болгарию, был, собственно, приятелем Дорофея, и я соображал, как вовлечь Дорофея в это предприятие, как изобразить ему безысходность моего положения.
Дорофея на даче не было. Блуждая по аллеям, я встретил его Ганку.
Она вернулась из школы. Она лишь сегодня поступила в школу. Она выглядела так, как никогда раньше не случалось. И, явно играя, произнесла:
— Вот! Теперь я тоже начну представлять про солнце и про звезды. Нас поведут в зверинец и в разные места. Если хочешь, ты пойдешь с нами. Хочешь?
Разгоряченная девочка была весела и привлекательна в новом платье.
Ганка хотела видеть мое восхищение. Я стоял потупясь.
— Ты что? Не хочешь со мной разговаривать?
— Да нет, у меня дела́.
— Как хочешь. А то бы я показала тебе новую шелковицу.
Мною овладевает неясный замысел.
— А где? — спрашиваю я, чувствуя, что для длинной фразы не хватает дыхания.
Ганка снова оживляется.
— Вот погоди, — говорит она быстро, — я сбегаю переменю платье, а то мамка закричит.
Однако я не могу этого допустить — увидать Ганку в ее прежнем дворовом виде, не в этих ловких туфельках и гладких чулках, не в школьном платье, а прежнюю дешевую босячку. О, в таком виде Ганка должна утратить всякое напоминание о Нате, самой смелой и красивой из того двора! И я останавливаю Ганку:
— Подожди, не надо… Я знаю одну игру.
Ганка целиком обращена в мою веру. Я сообщаю ей все, что от нее требуется. Я без труда выдумываю:
— Вот как. Будто тебя преследуют, а я тебя спасаю. Мы полетим на аэроплане. «Я полечу только с тобой!» — говоришь ты, но ты боишься. Ты будешь цепляться за меня… Ты видела в театре, как женщины боятся? Или в иллюзионе? Ну так вот, цепляйся за меня и висни.
И вот есть уже повторения. Короткое мгновение я задерживаюсь над своим преступным желанием, но нет уже того сопротивления, что давным-давно свалило меня над сверкающим гривенником…
Я стоял на скамейке, собрав губы и нос в нехорошую, лживую улыбку.
— Ну и конец? — озадачена девочка. — Ничего интересного в твоей игре нет. По-моему, скучно и… совестно…
Она замечает, как измято ее новое школьное платье. Ганка в испуге и отчаянии. Все равно она скажет, что это я измял платье, заставивши ее так играть.
Я убежал к морю. Дорофей для меня погиб.
Болгария, доступная за отдаленной дымкой горизонта, за областью сливающихся моря и неба, куда должен был доставить меня рыбак, — Болгария погибает. Остается лишь раскаяние и доверие к отцу, к единственному папе, такому нужному для моего сердца.
В тишине, не отводя глаз от взморья, я увидел на горизонте шесть огоньков и тени кораблей. Отряд болгарских кораблей шел, очевидно, в Варну, домой, на родину. Я провожал их, не отрываясь от огоньков, скользящих вдоль горизонта.
Война окончилась.
Я приволокся домой, тоскуя и страшась.
Но отца не было. Я уничтожил свое письмо. Взял зеркало и долго не решался взглянуть в него. Я сидел перед зеркалом, обернув его к себе тыльной стороной. И когда начало темнеть, взглянул в стекло.
Смотрело два круглых испуганных глаза, кончик курносого носа блестел, и нижняя губа подергивалась.
Я старался восстановить обычное впечатление от собственного лица, ища в нем перемен. Сейчас впервые, уверенный, что вижу свое лицо, я смотрел на себя со стороны, словно чужой.
Я видел: это он. Ближе привлек «его» к себе, все больше возбуждаясь любопытством. Зеркало могло обманывать. Случившееся, несомненно, должно сказаться и на лице, не может не изменить его!
Избегая прикосновения к предметам и не зажигая света, я разделся и поспешно завернулся в одеяло.
Я долго лежал так: без надежд и движений, как пойманный еж.
Просыпаясь среди ночи, я прислушивался. Сначала была тишина. Потом я слышал дыхание отца.
Чувствующие за собой ответственность во сне отданы ей безраздельно. Действительность — кабала, но сон — тем более. Я спал, преследуемый греховной и тревожной близостью Наты.
Еще не вполне проснувшись, по голосу отца я уже понял, что последует за пробуждением.
— Вставай! — будил меня отец.
Я раскрыл глаза, и мое лицо выразило согласие во всем, что отец считает установленным.
— Лодырь! — сказал он. — И нет ничего удивительного. Покуда не поднимешь — не встанет из постели. Мальчишка и негодяй!
Он шагнул ко мне, и я, как солдат, подчиненно встал перед ним во весь рост.
Он, взволнованно сопя, отошел, однако, в сторону.
А я все еще стоял так минуту и другую, мое лицо ширилось и ослабевало, и, наконец, не сдержась, я вскрикнул и забился на подушке.
Мое детство закончилось. И этот стыд преждевременного познания мною испытан. И в этом унижении я не