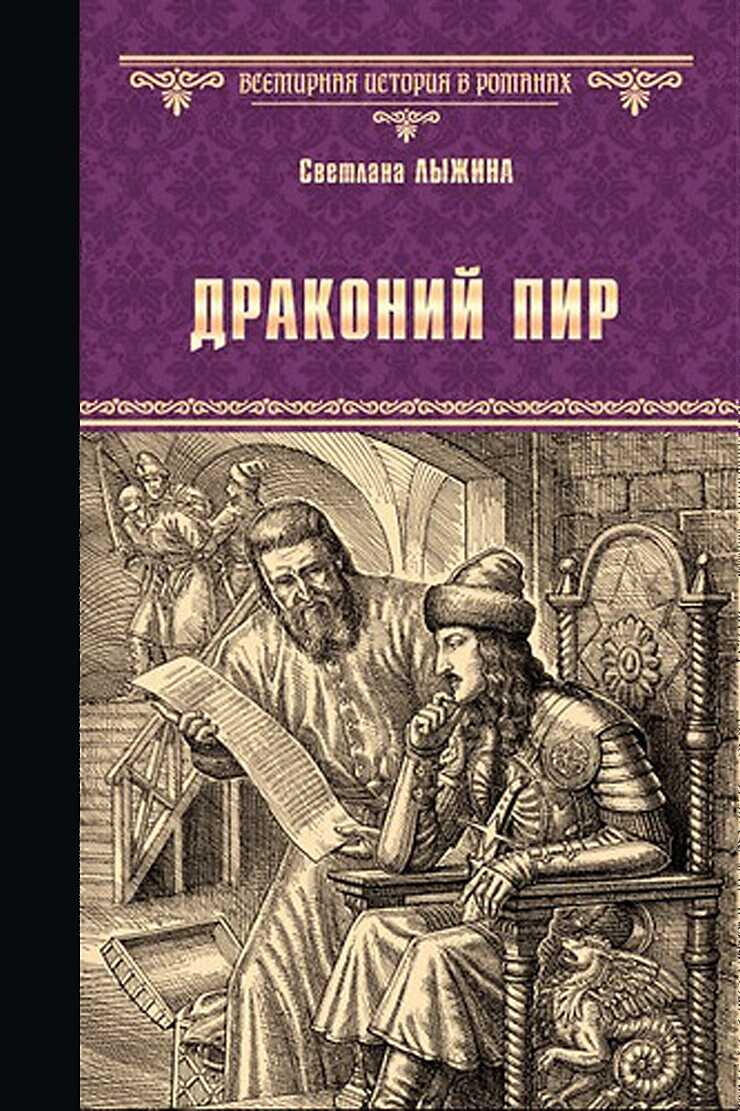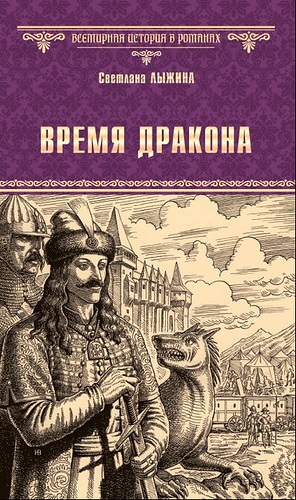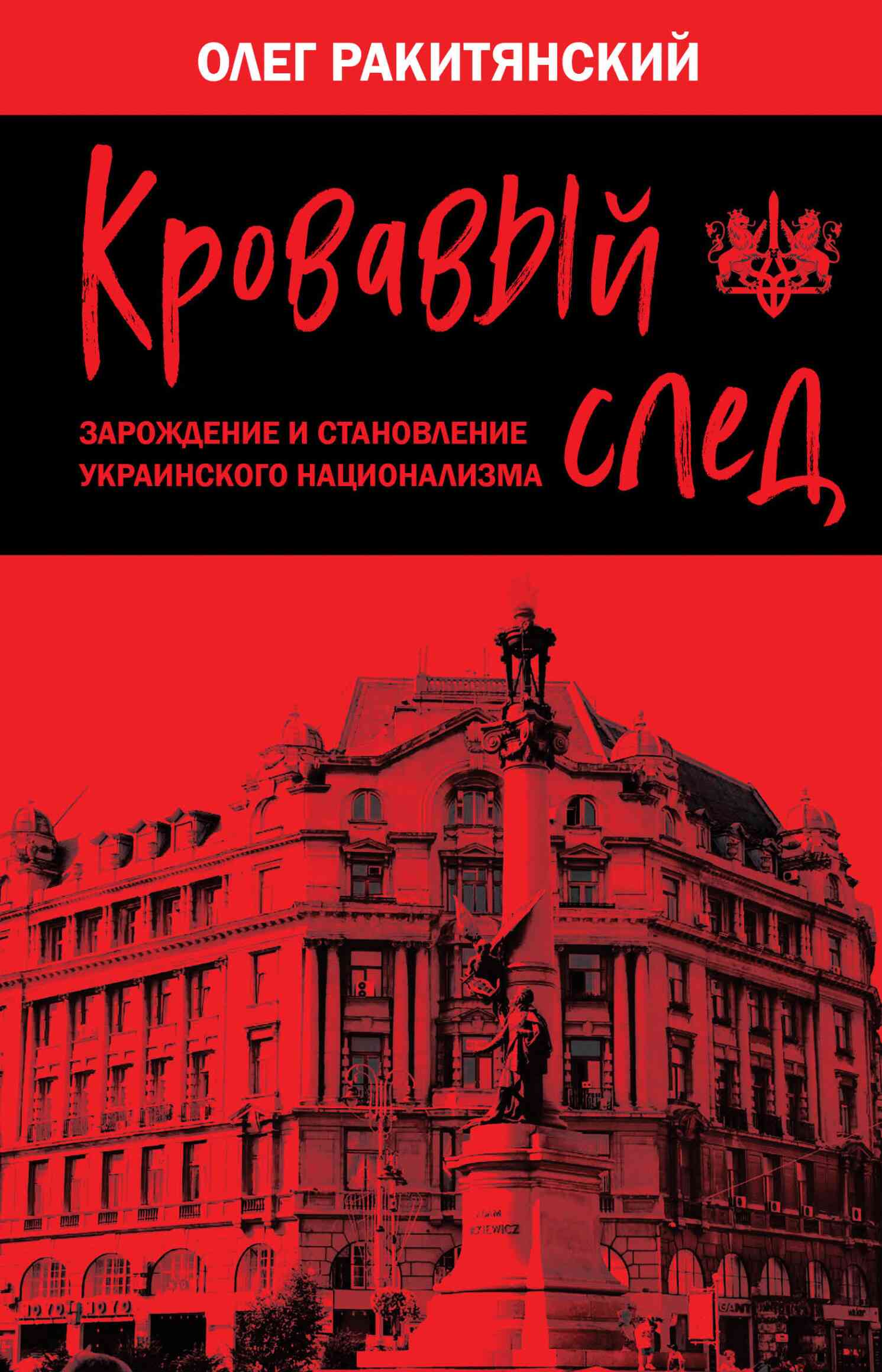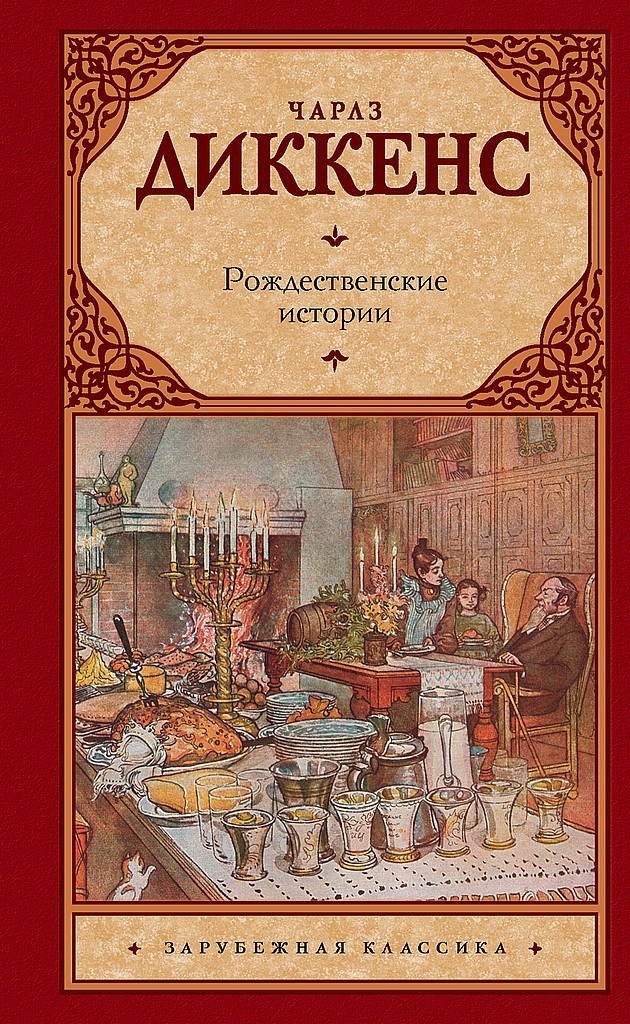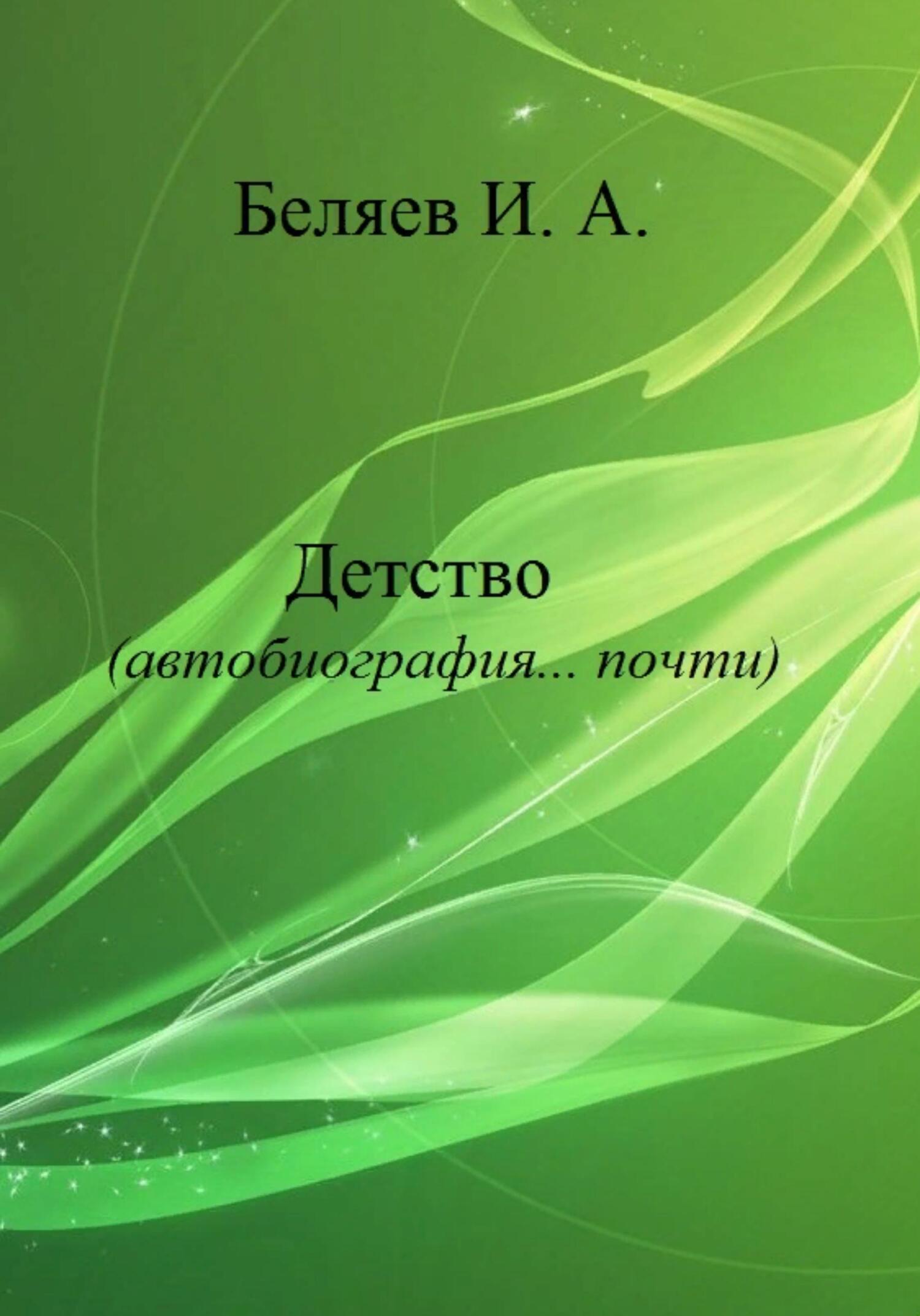Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Слово «юродство» в изначальном значении – духовно-аскетический подвиг, отказ от мирских благ и от того поведения, которое принято называть «разумным». Такой человек, не заботящийся о собственном быте, говорящий всем правду в лицо и боящийся только Бога, почти всегда кажется глупцом или безумцем, но «разумные» все равно прислушиваются к юродивому. Это ли не чудо? На Руси голос юродивого считался «гласом Божиим», и неудивительно, что образ «юродивого Христа ради» нашел отражение во многих произведениях русской литературы.Одни из наиболее ярких произведений, принадлежащие перу О. Сомова, Н. Лескова, Г. Успенского, И. Бунина и Б. Зайцева, составили этот сборник.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Светлана Сергеевна Лыжина»: