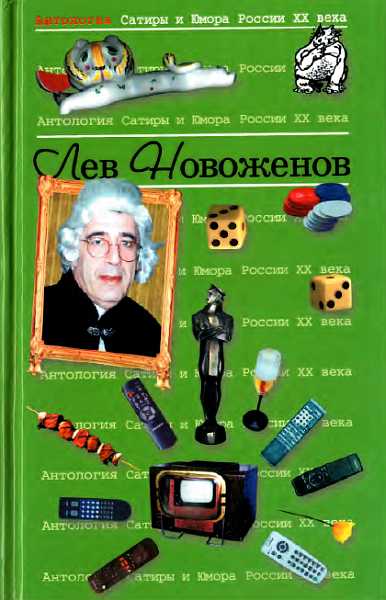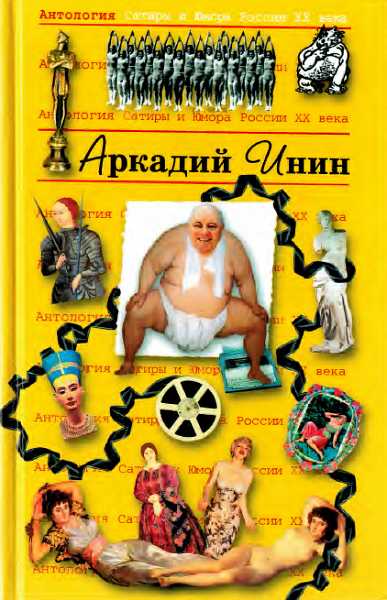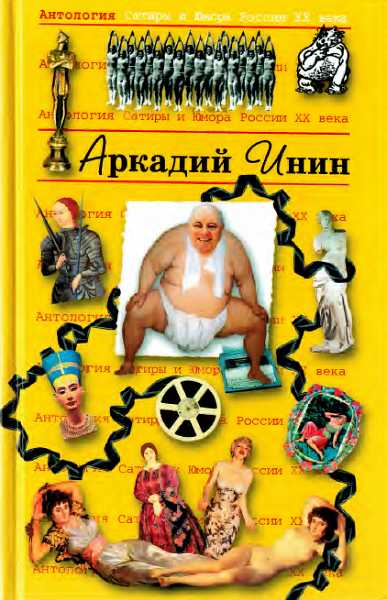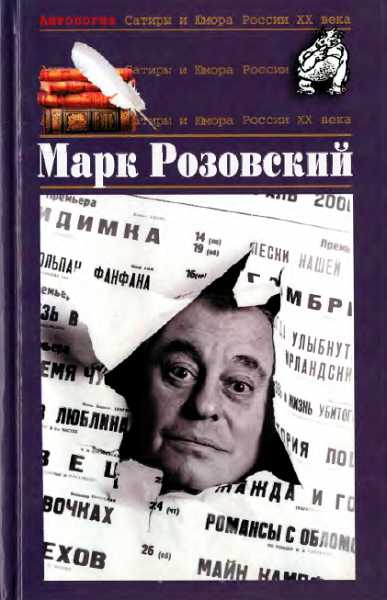Шрифт:
Закладка:
Вы хотите узнать больше о жизни и творчестве одного из самых оригинальных и необычных писателей XX века? Вы хотите прочитать его стихи, рассказы, драмы, афоризмы и другие произведения, которые поражают своей фантазией, юмором, абсурдом и глубиной? Тогда эта книга для вас!
Автор книги собрал в ней самые интересные и важные факты из биографии Даниила Ивановича Хармса (настоящая фамилия Ювачёв), который родился в Санкт-Петербурге в 1905 году и умер в Ленинграде в 1942 году. Он рассказывает о том, как Хармс стал писателем, как он участвовал в литературных объединениях “Левый фланг” и “ОБЭРИУ”, как он писал для детей и взрослых, как он был репрессирован и арестован. Он показывает, как Хармс создавал свой неповторимый стиль, который сочетал модернизм, заумь, бессмыслицу, алогизм, гротеск, чёрный юмор и абсурд. Он дает слово самому Хармсу, цитируя его произведения и высказывания.
Книга “Хармс Даниил - Даниил Иванович Хармс” - это не просто книга. Это знакомство с удивительным миром Хармса, который заставляет нас смотреть на жизнь по-новому. Это книга, которая учит нас играть со словами, мыслями и эмоциями. Это книга, которая докажет вам, что литература может быть не только серьезной, но и смешной, не только логичной, но и безумной, не только реалистичной, но и фантастической. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com