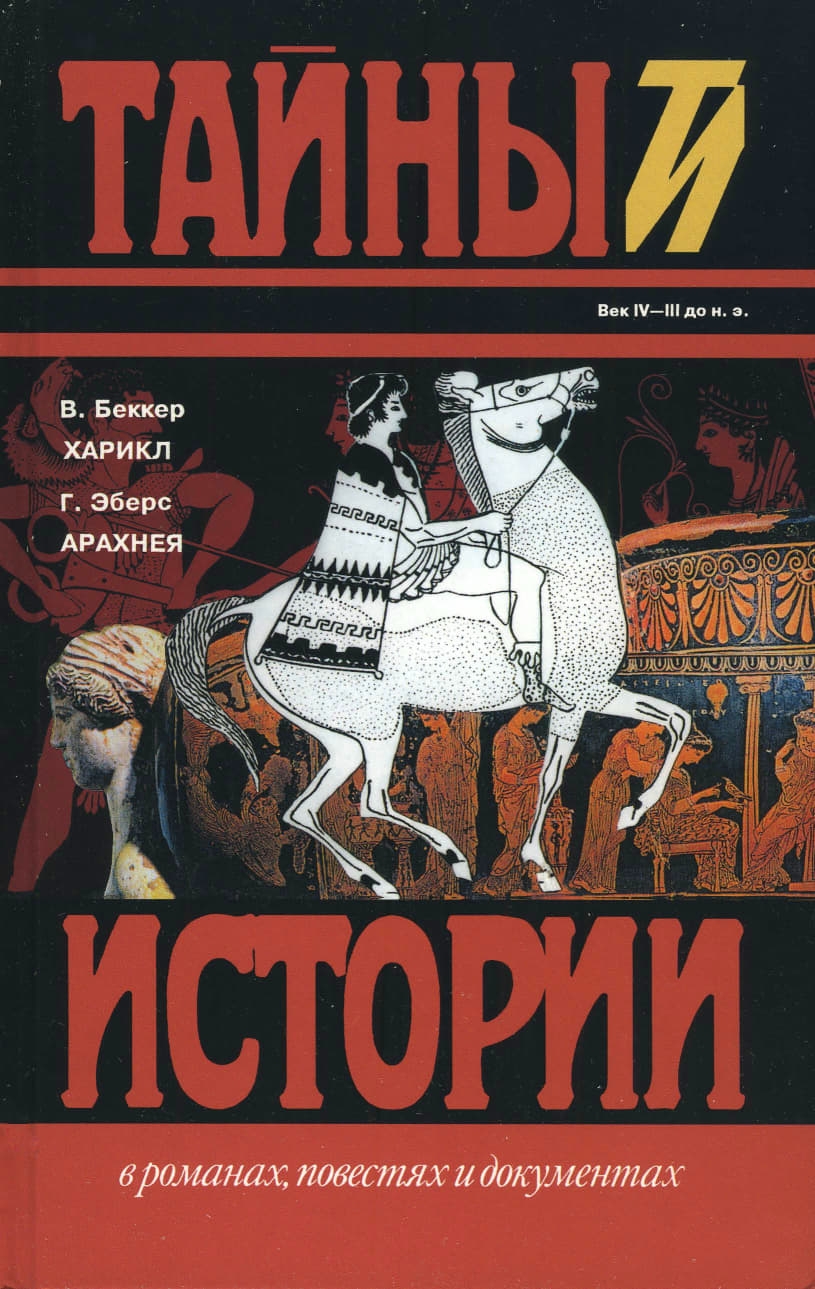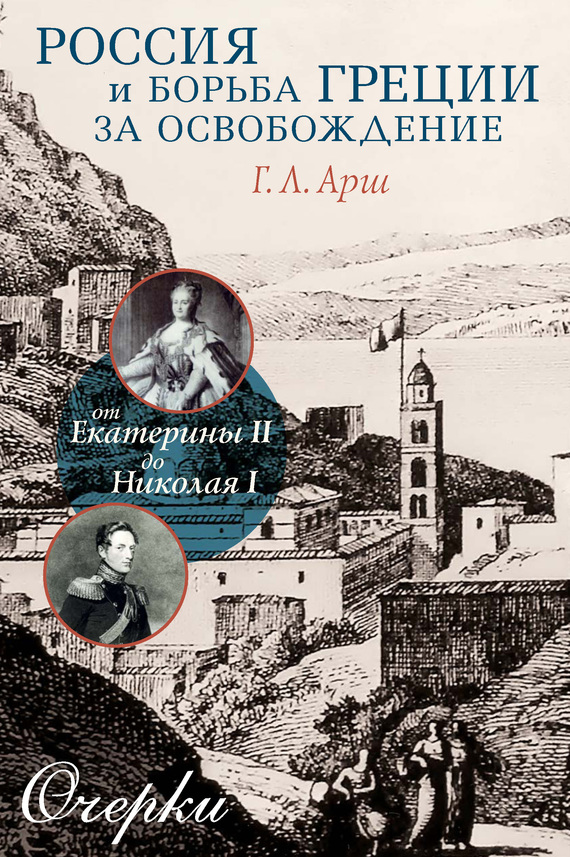Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга рассказывает о жизни древних греков IV—III веков до н. э. В сочинении немецкого историка В. Беккера действие происходит в Греции IV века до н. э., во времена македонского владычества. В центре повествования — жизнь, приключения и любовь молодого грека Харикла. Исторический роман Г. Эберса, немецкого египтолога и романиста, вводит читателя в мир эллинистического Египта III века до н. э. Жизнь, творчество и невероятные приключения скульптора Гермона описаны с высокой степенью исторической достоверности. Оба произведения обладают большой фактологической информативностью, написаны в занимательной художественной форме и представляют несомненный интерес для массового читателя, увлекающегося историей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вильгельм Адольф Беккер»: