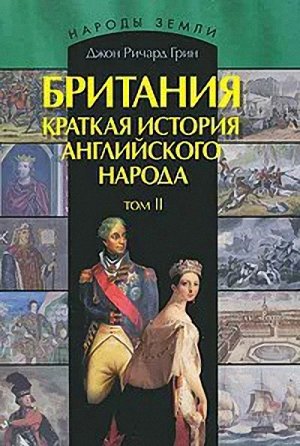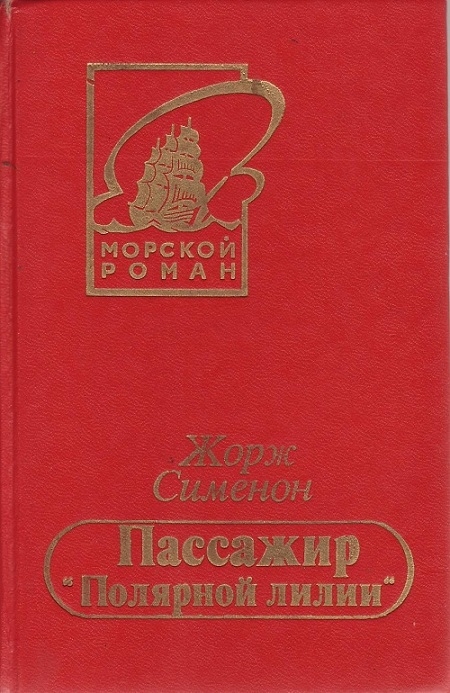Шрифт:
Закладка:
Ричард Докинз — один из самых известных и влиятельных ученых современности. Его книги о биологии, эволюции и религии прочитали миллионы людей по всему миру. Но как он стал тем, кем он есть? Какие события, люди и идеи повлияли на его жизнь и мышление?
В этой книге Докинз рассказывает о своем профессиональном пути, начиная с детства и заканчивая настоящим временем. Он делится своими воспоминаниями о работе в разных университетах, о встречах с выдающимися учеными, такими как Стивен Хокинг, Карл Саган и Джеймс Уотсон, о создании своих знаменитых книг, таких как «Эгоистичный ген», «Слепой часовщик» и «Бог как иллюзия». Он также рассказывает о своих взглядах на науку, общество и религию, о своей борьбе за разум и свободу мысли.
Если вы хотите узнать больше о жизни и творчестве Ричарда Докинза, то вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Здесь вы найдете полный текст книги в хорошем переводе, а также много интересных фотографий и иллюстраций. Не пропустите возможность заглянуть в ум одного из самых ярких мыслителей нашего времени!