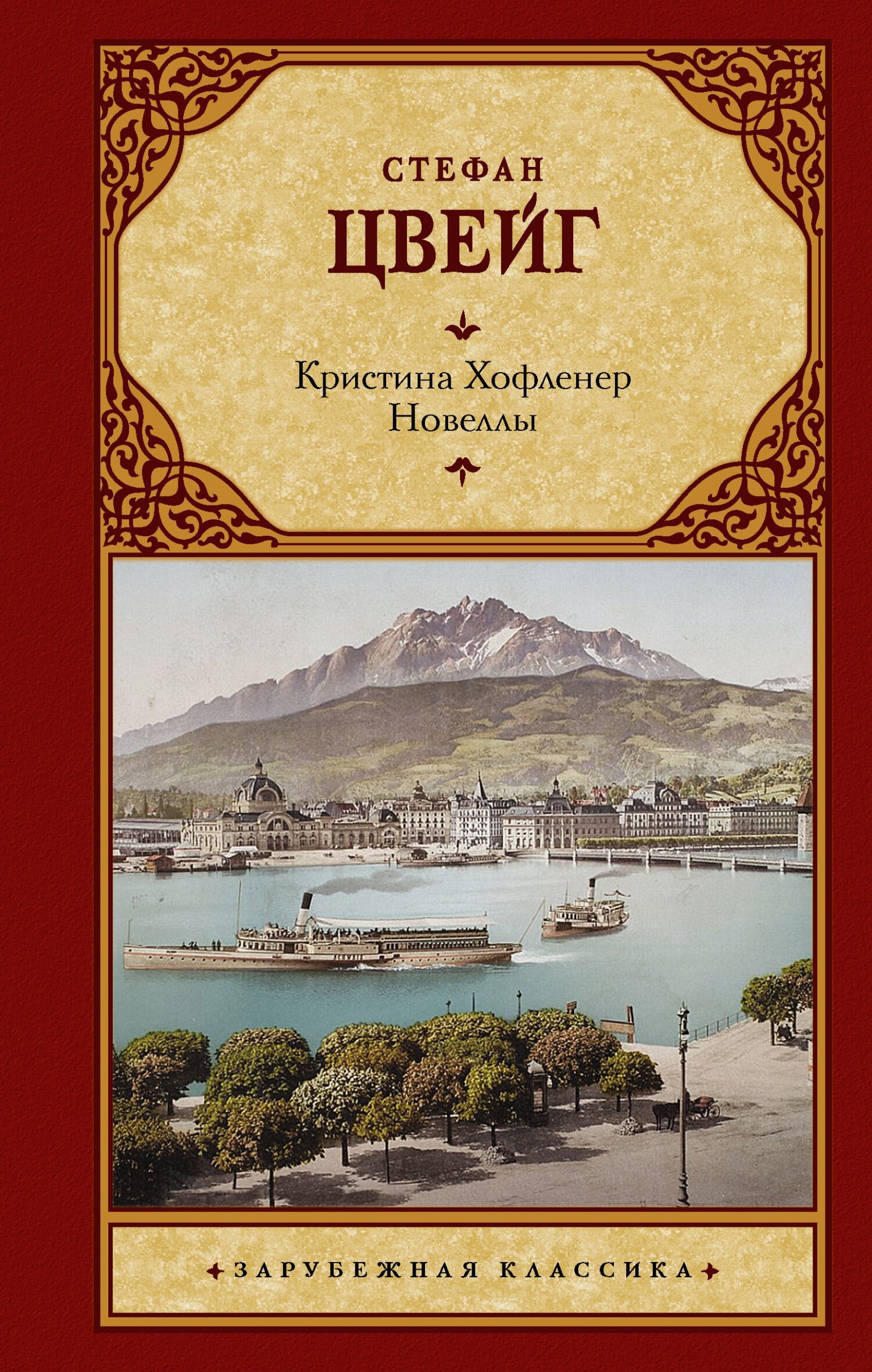Шрифт:
Закладка:
«Кристина Хофленер» – второй роман Стефана Цвейга, написанный в 1930-е годы, обнаруженный в архивах писателя и опубликованный лишь спустя 40 лет после его смерти.Совсем еще юная Кристина Хофленер влачит полунищенское существование в маленькой австрийской деревушке. Будущее не сулит ей ничего, кроме унылого труда на местной почте, забот о больной матери и скудной зарплаты. Однако внезапно все меняется. Тетя – в прошлом содержанка, ухитрившаяся выйти замуж за американского миллионера, – приглашает племянницу присоединиться к ней на шикарном швейцарском курорте. К ногам деревенской девушки, осыпанной милостями и подарками щедрой родственницы, падает, кажется, весь мир. Но надолго ли улыбнулось ей счастье?..Сюжет романа положен в основу фильма «Хмель преображения», снятого мэтром французского кино Эдуаром Молинаро. А для фильма «Отель «Гранд Будапешт», по словам режиссера, из текста романа взято описание роскошного отеля в Швейцарии.В сборник включена «Шахматная новелла», а также новеллы «В сумерках» и «Лепорелла».