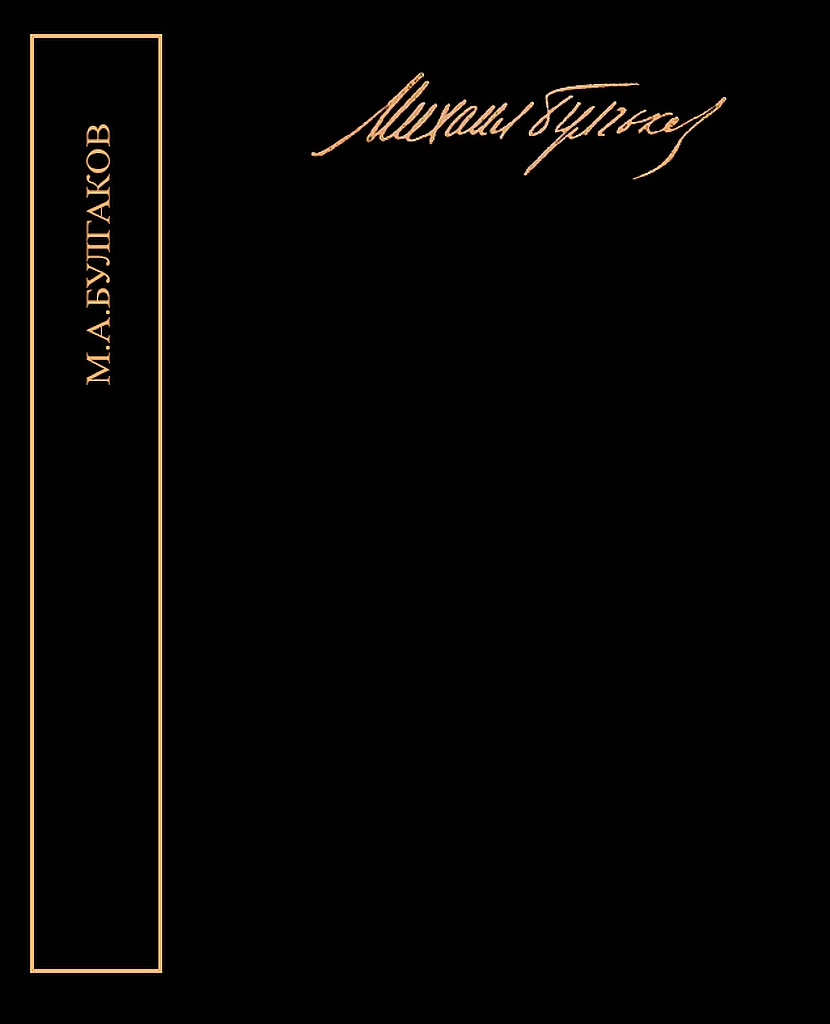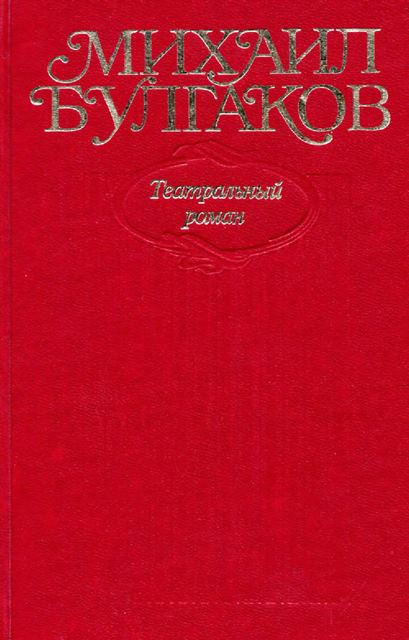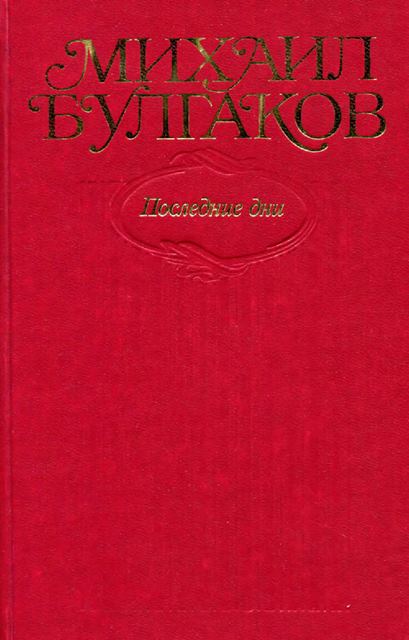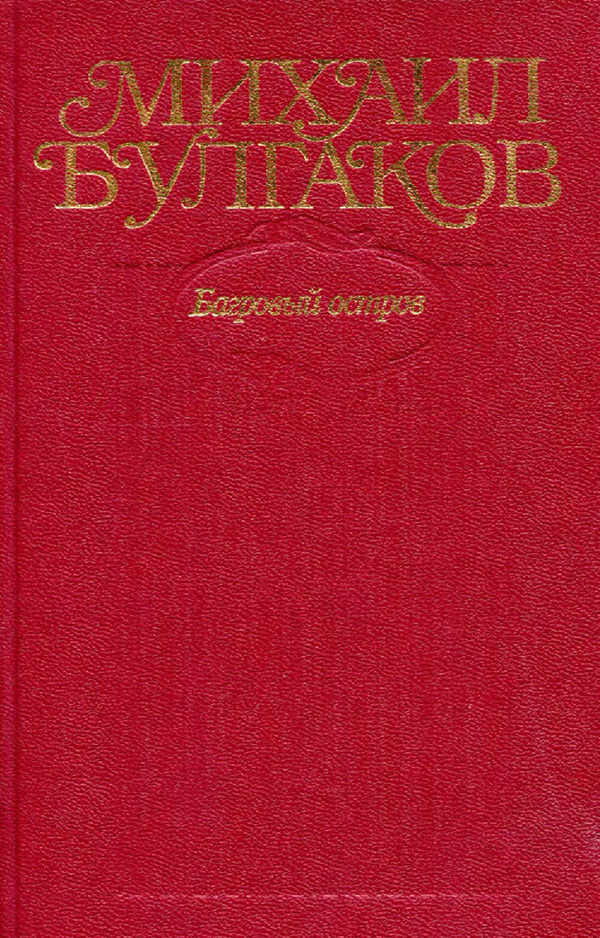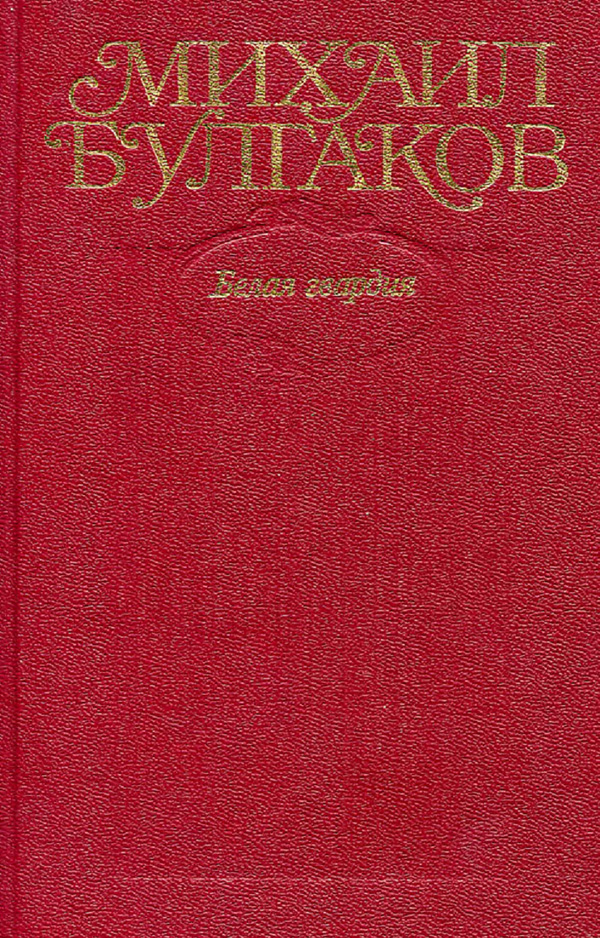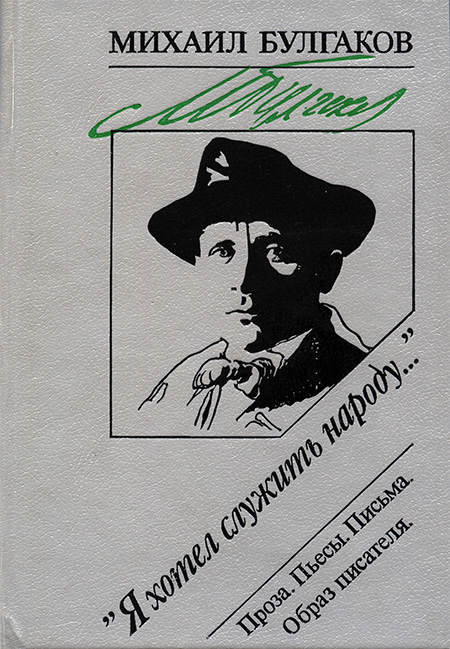Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В первый том Собрания сочинений Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940) входят его ранние произведения: «Записки юного врача», роман «Белая гвардия», рассказы начала 20-х годов: «Необыкновенные приключения доктора», «Морфий», «Налет» и др.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Афанасьевич Булгаков»: