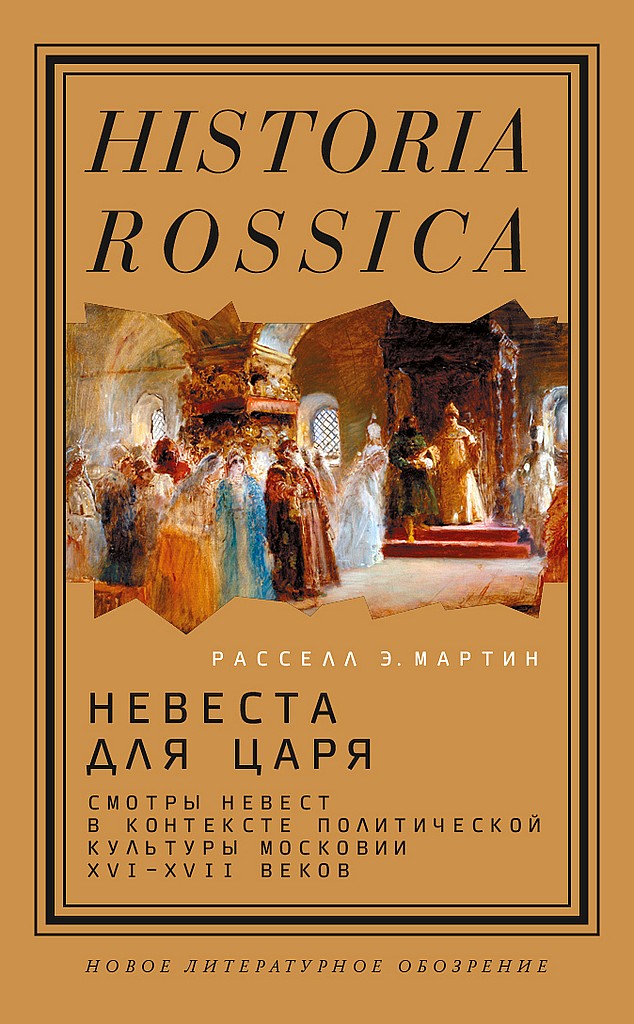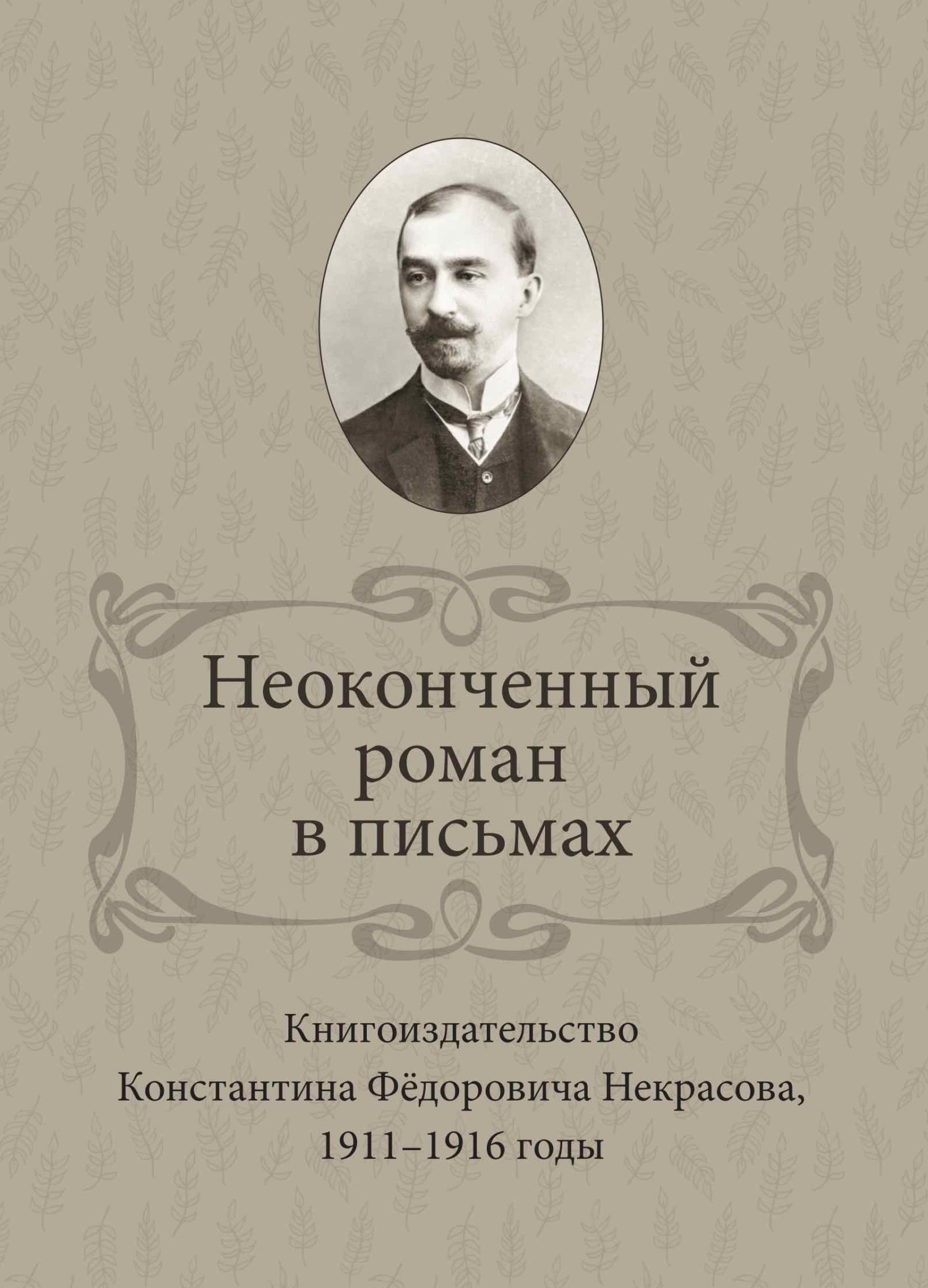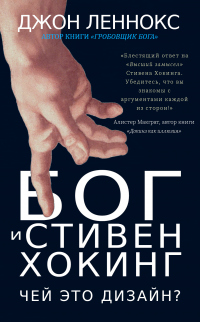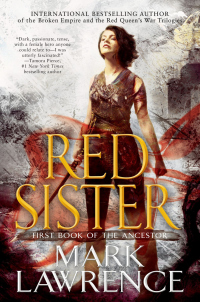Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Джеймз Стивенз (1880–1950) — ирландский прозаик, поэт и радиоведущий Би-би-си, классик ирландской литературы XX века, знаток и популяризатор средневековой ирландской языковой традиции. Этот деятельный участник Ирландского возрождения подарил нам пять романов, три авторских сборника сказаний, россыпь малой прозы и невероятно разнообразной поэзии. Стивенз — яркая запоминающаяся звезда в созвездии ирландского модернизма и иронической традиции с сильным ирландским колоритом. На русском языке уже изданы его «Ирландские чудные сказания» (1920) и «Горшок золота» (1912), а теперь пришел черед «Полубогов» (1914) — работы, по мнению самого Стивенза и литераторов из его окружения, даже более зрелой и виртуозной, чем «Горшок золота».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Джеймс Стивенс»: