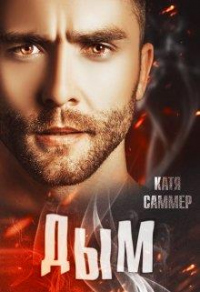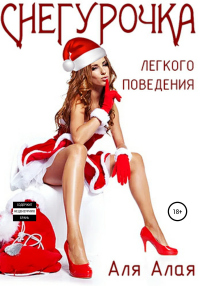Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Магия не всегда защищает её обладателя. И мир, где живёт Марит, тому подтверждение. Владеть волшебной силой в Дании в 1866 году – не привилегия, а проклятие. Каждое новое заклинание оставляет опасное вещество Фирн в венах магов, приближая их к смерти. Фирн убил сестру Марит, после чего та поклялась никогда не использовать свою магию нитей. Но когда её близкую подругу удочеряет влиятельная семья Вестергард, девушка готова на всё, чтобы остаться рядом. Она решает рискнуть и применяет магию, чтобы получить работу швеи в их доме. Но Марит с семьёй Вестергард связывает ещё кое-что. Её отец погиб, работая в их шахтах по добыче драгоценных камней. И всё указывает на то, что это не был несчастный случай. Чем ближе девушка становится к разгадке тайн этой влиятельной семьи, тем больше её близким угрожает опасность. Марит оказывается в центре предательского обмана, доходящего до короля Дании. И теперь магия – единственное, что может спасти её. Если не убьёт раньше.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эмили Бейн Мерфи»: