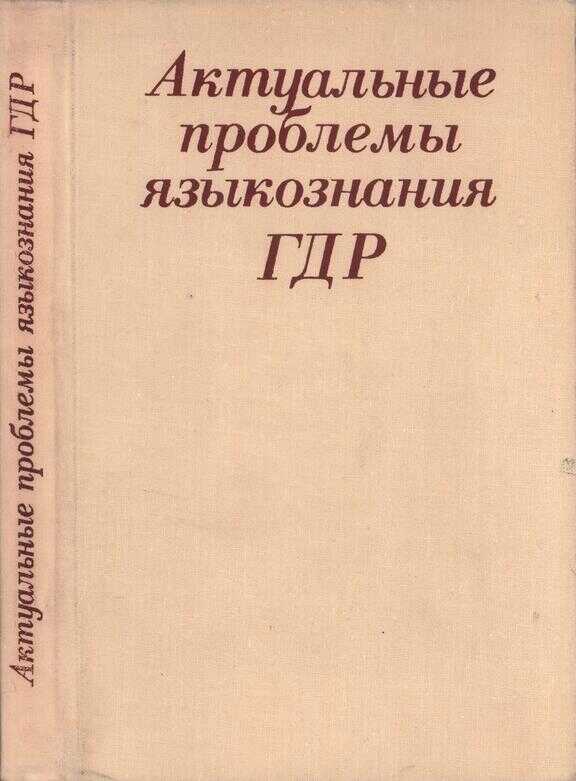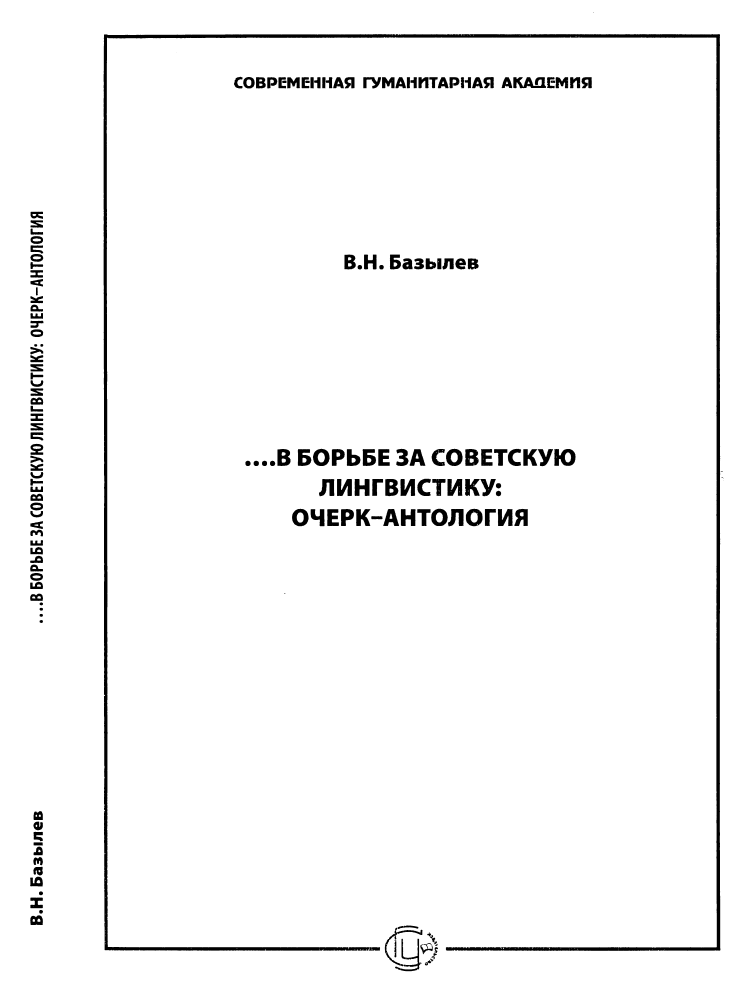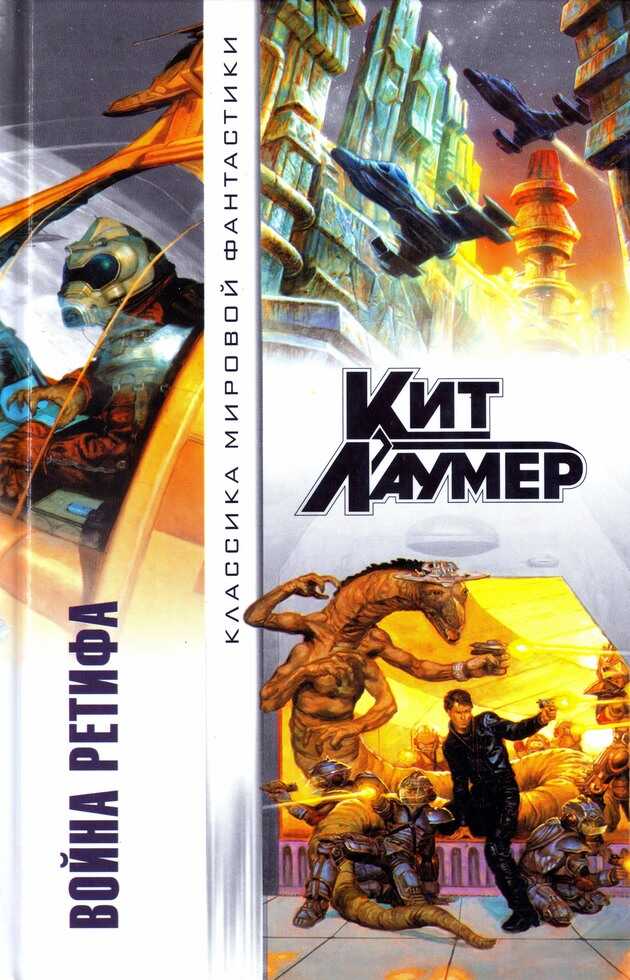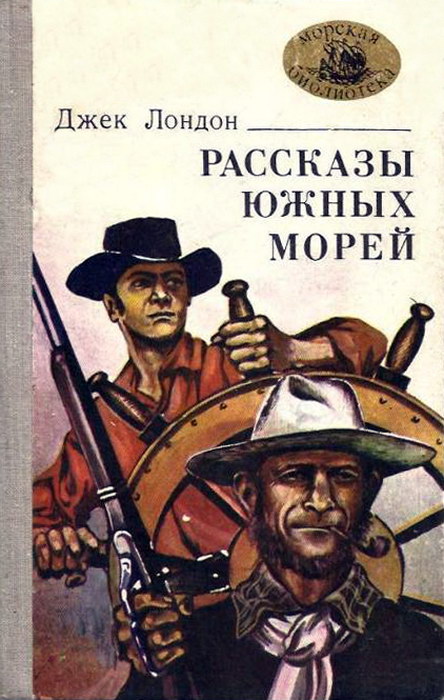Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга содержит работы по общей теории языка, а также по диалектологии, лексикологии и истории немецкого языка, характеризующие социальную обусловленность языка и закономерности его функционирования и развития в условиях социалистического строя. Большой интерес представляют материалы сборника о специфических тенденциях в развитии немецкого языка, отражающих социалистический образ жизни (неологизмы последних лет, изменения в значениях слов, особенности словосочетаний и т.д.). Рекомендуется филологам-лингвистам, преподавателям и студентам гуманитарных вузов.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Сергеевич Чемоданов»: