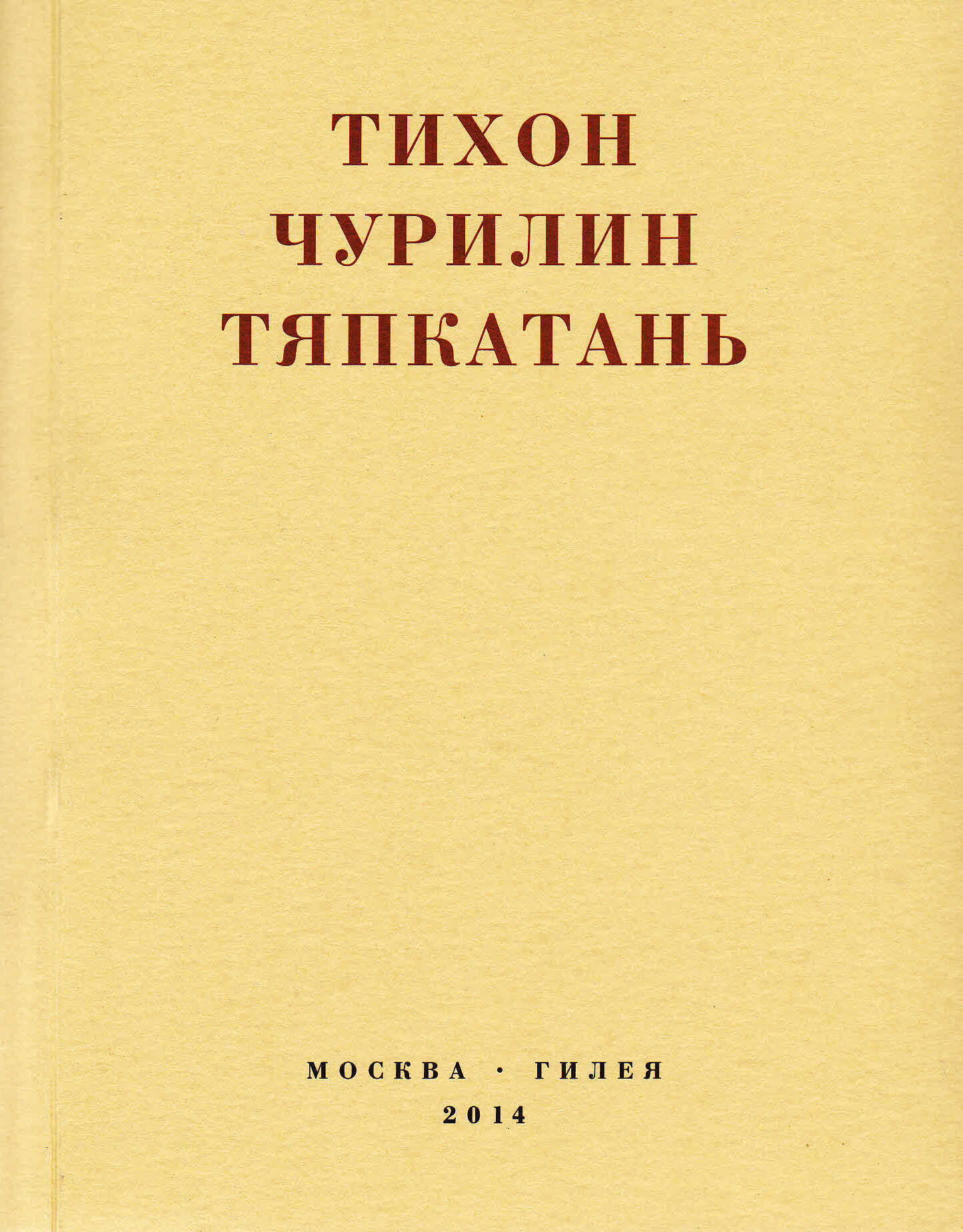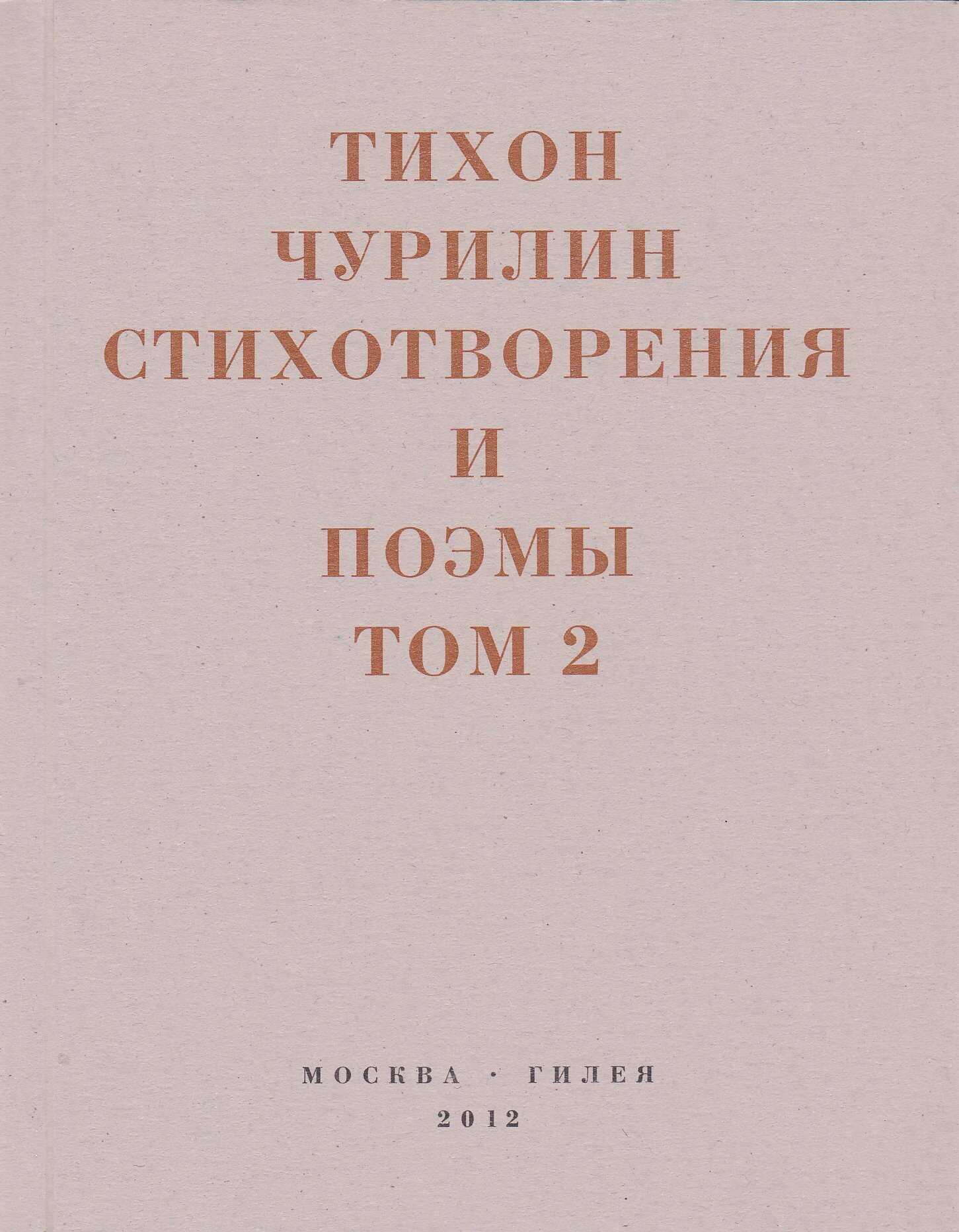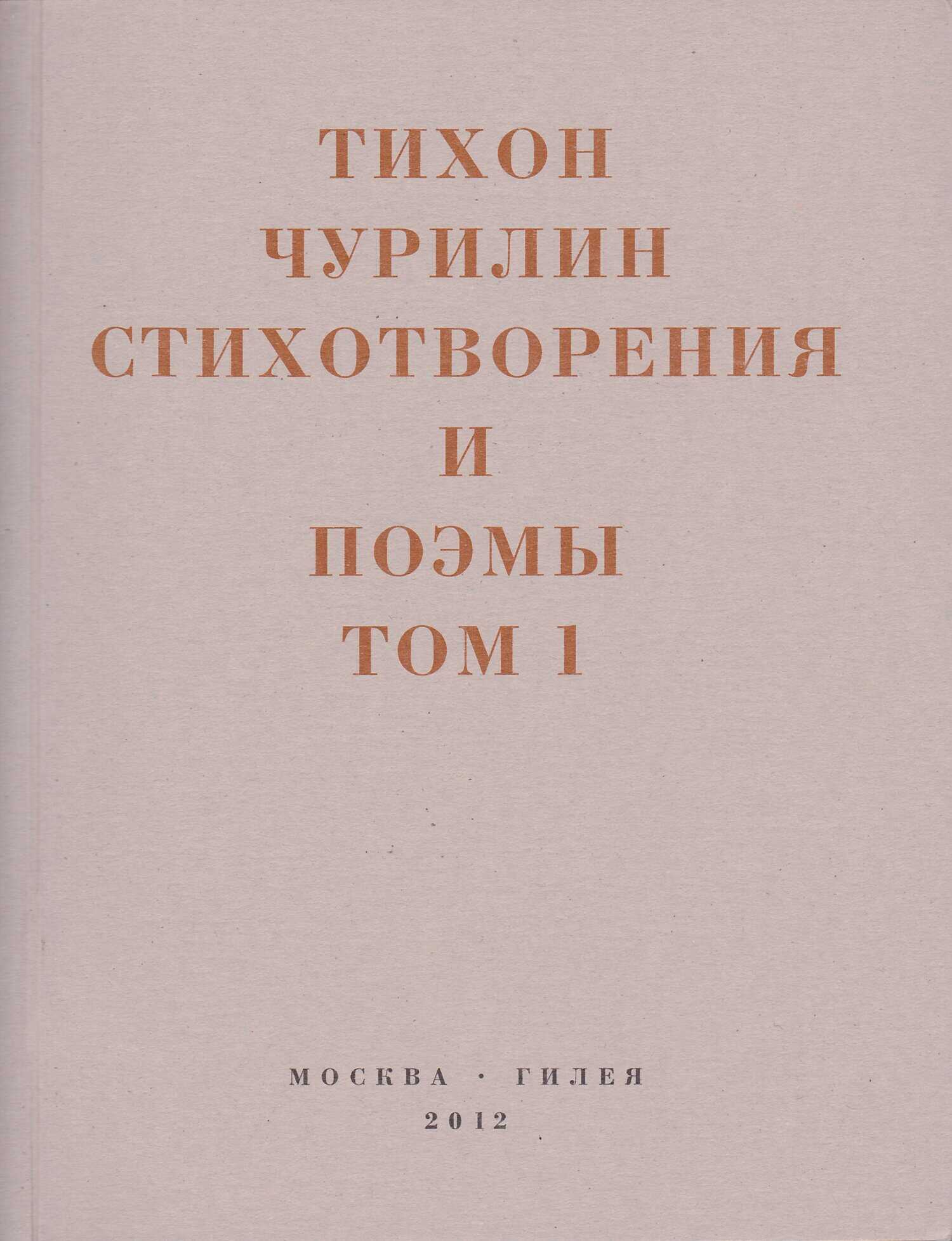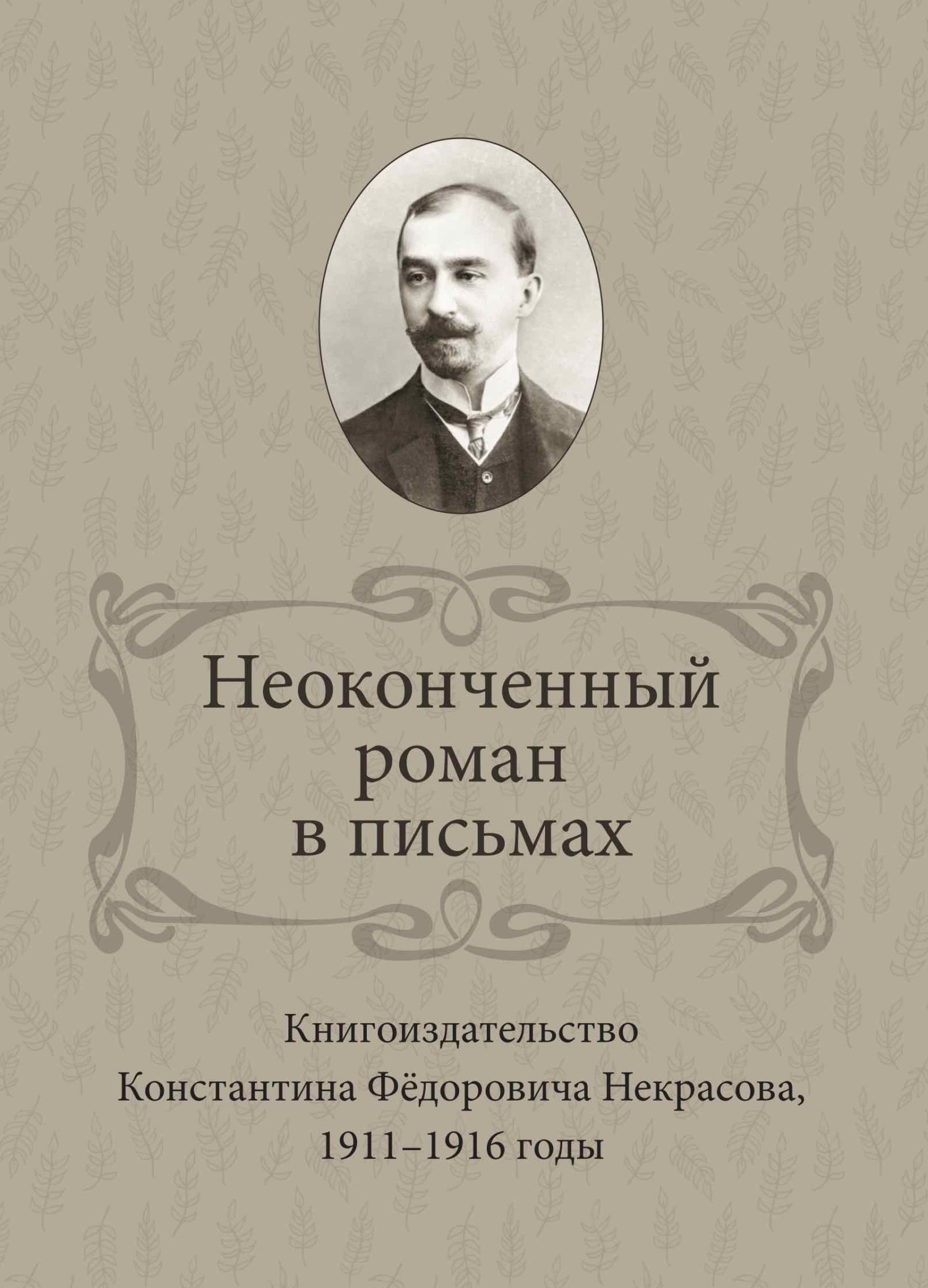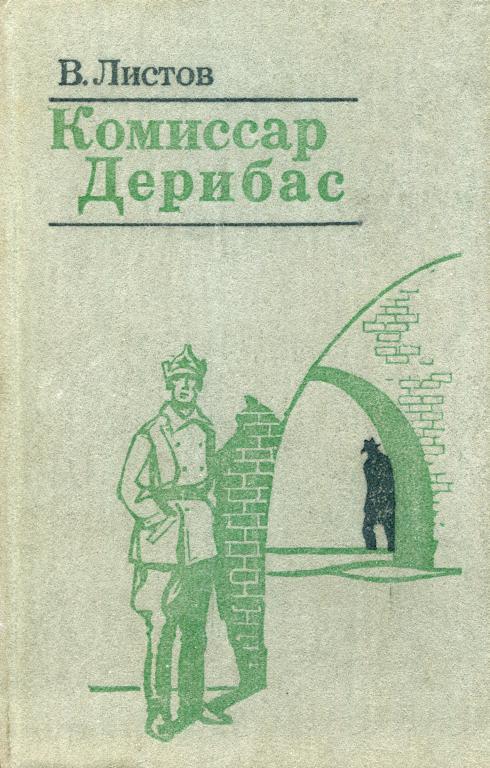Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Первое полное издание эпического романа, сочиненного поэтом-постфутуристом в середине 1930-х гг. Фантасмагория жизни провинциального русского города с момента его основания до революций XX в.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Тихон Васильевич Чурилин»: