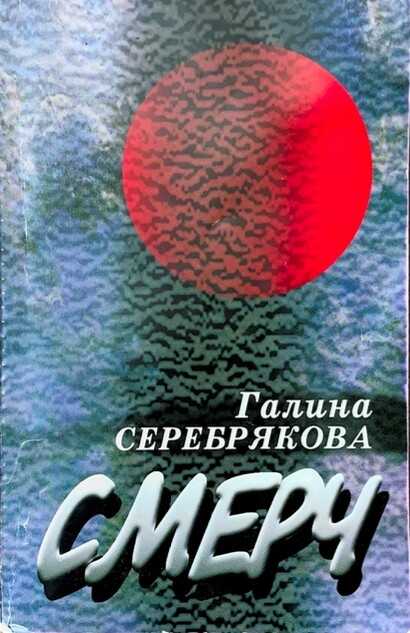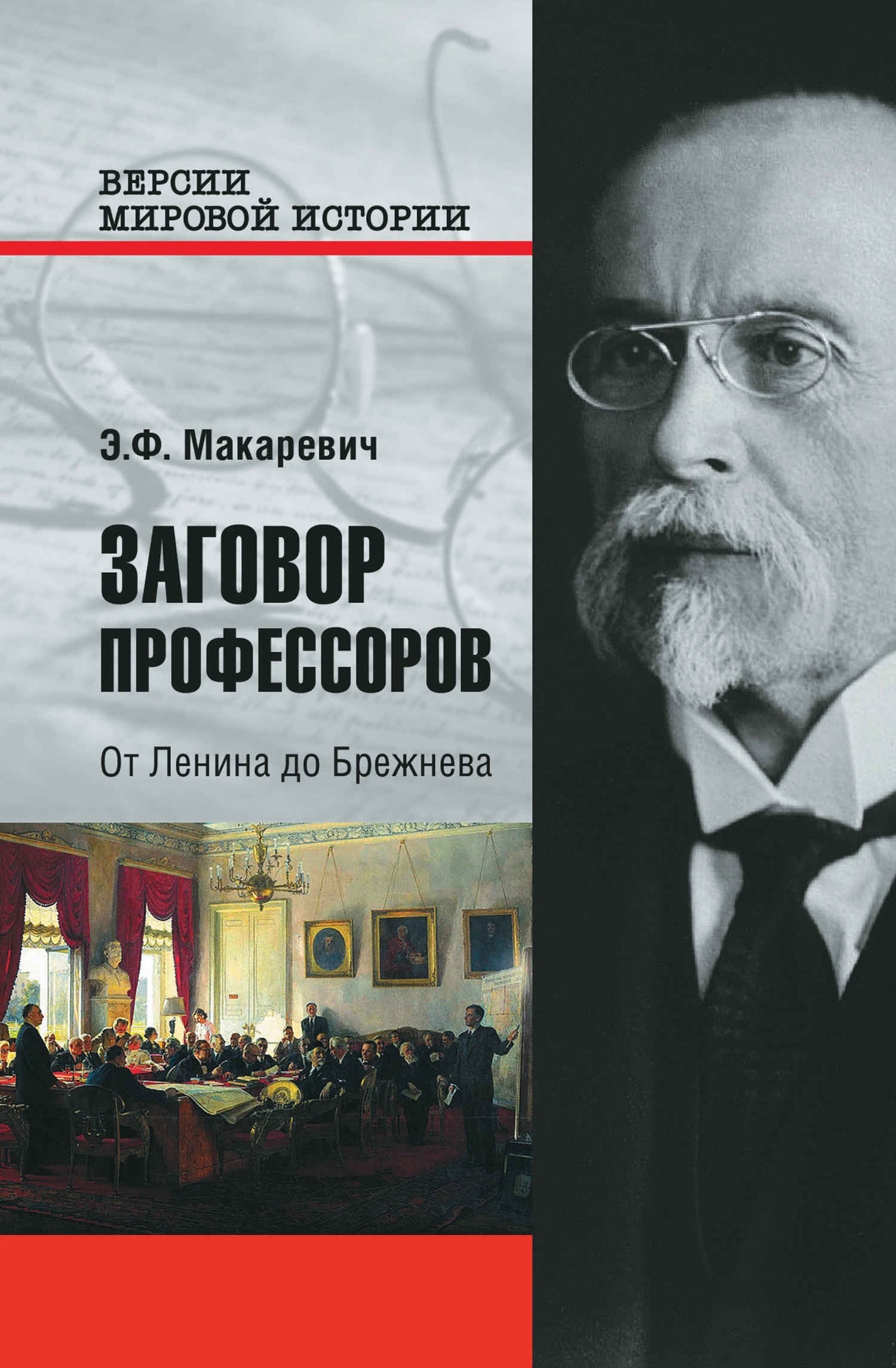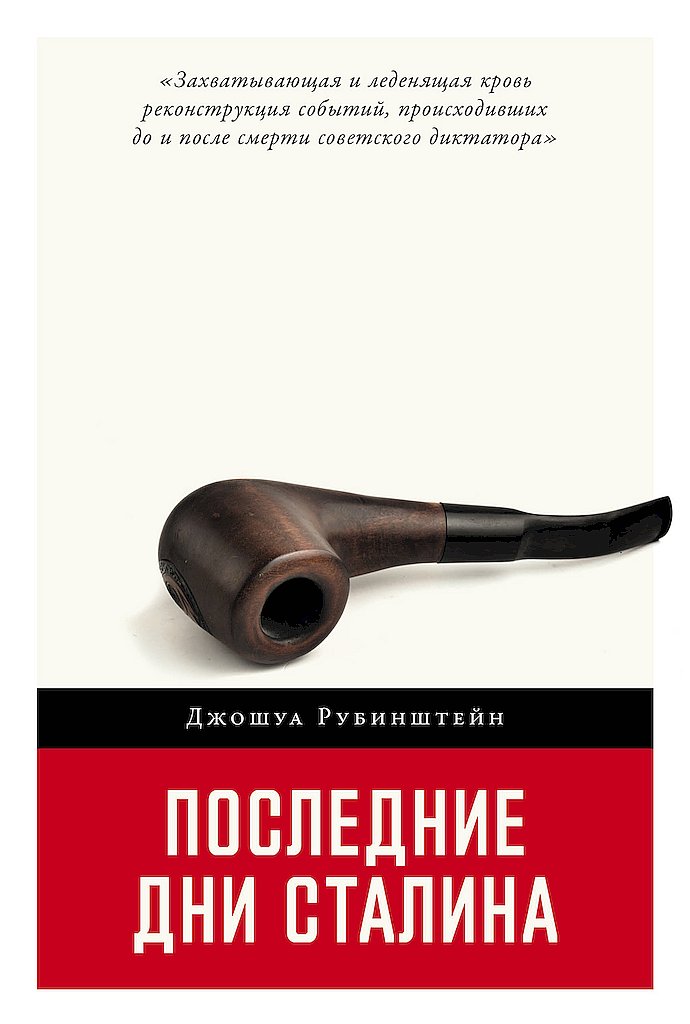Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Воспоминания супруги Сокольникова Г,Я. о периоде перед арестами и до 1939 года 8 лет ИТЛ
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Галина Иосифовна Серебрякова»: