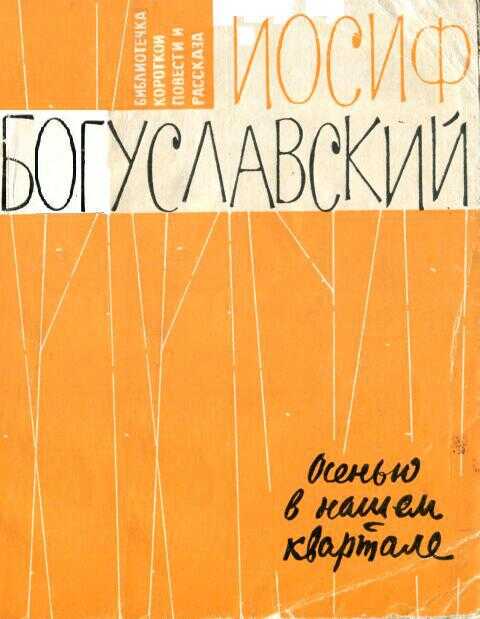Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мне, наверное, очень повезло в жизни. Меня всегда окружало много хороших людей. Я помню рабочих людей войны, моих школьных учителей, товарищей-сверстников. Я встречался с ними и потом, уже учась в университете и позднее — в институте кинематографии. О них были мои первые рассказы. Герой моей новой книжки Кирилл Кондрашов ищет пути служения добру, истине, учится быть полезным людям. Его жизненный поиск равен осознанию самого себя как человека и гражданина. Встреча с хорошими людьми — это всегда радость. Я мечтаю, чтобы именно такое чувство ощутили в себе те, кто прочтет мою повесть. АВТОР
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иосиф Борисович Богуславский»: