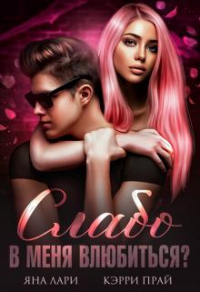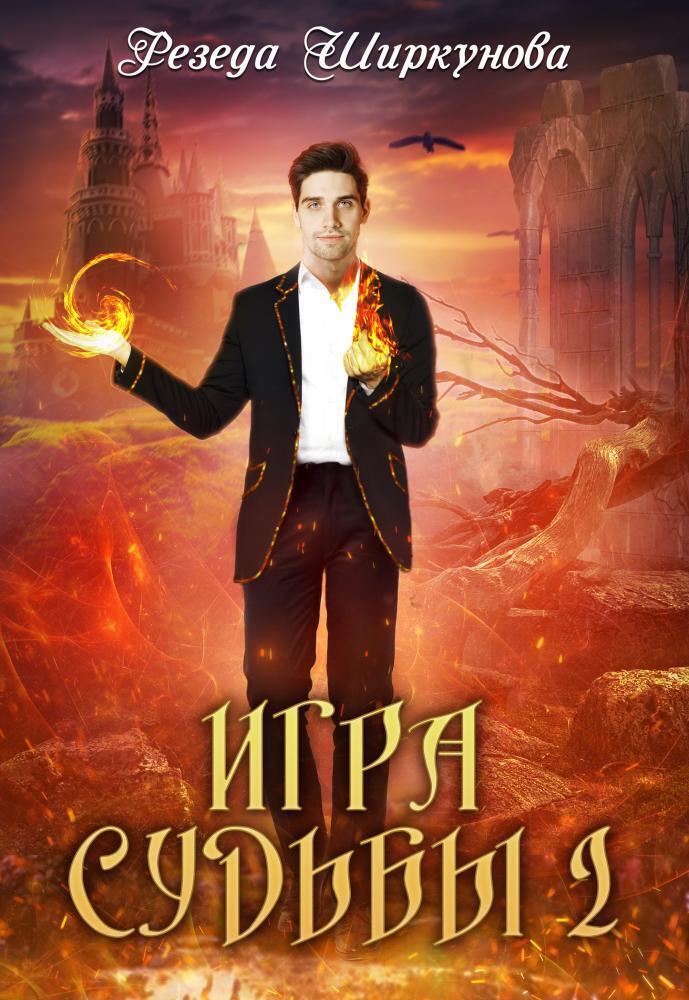Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Когда юного Генри Торна крадут из дома и привозят на отдаленную ферму, находящуюся посреди леса, мальчик неожиданно устанавливает контакт со странной силой, живущей в чаще,– и использует ее для того, чтобы расправится со своими похитителями. Но он еще не знает, что у этого древнего существа есть свои собственные причины, чтобы избавиться от незваных гостей, ведь под домом, в темном влажном подвале, спрятано то, что очень нужно чудовищу. И потому прольется кровь, и монстр, изучая людей с помощью Генри, теперь не остановится ни перед чем.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Филип Фракасси»: