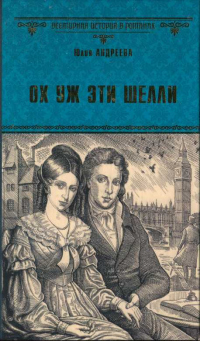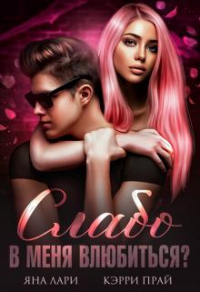Шрифт:
Закладка:
В мае 1816 года пятеро человек коротали вечера на берегу Женевского озера. Мэри Шелли со своим мужем знаменитым поэтом Перси Биши Шелли и сводной сестрой Клер Клермонт, писатель и врач Джон Полидори и легендарный к тому времени Джон Байрон не знали, чем себя занять. В один прекрасный день лорд Байрон предложил пари, выиграет которое тот, кто напишет самый страшный, самый «сверхъестественный» рассказ. Итогом этого конкурса стало рождение демона Франкенштейна, самого пугающего в истории мировой литературы романа. Никто не ожидал, что никогда ранее не писавшая Мэри создаст героя, который спустя много лет сведет с ума и саму писательницу.В настоящем издании публикуется существенно дополненная версия, которая была издана в 1831 году. История создания «самого чудовищного романа» рассказывается в путевых очерках Мэри и Перси Шелли, которые те писали в период своего вынужденного заточения на вилле в Швейцарии.Издание иллюстрировано картинами и гравюрами XIX века.