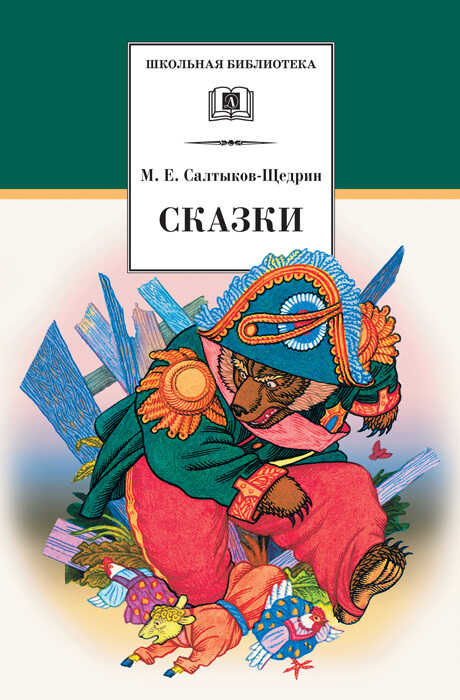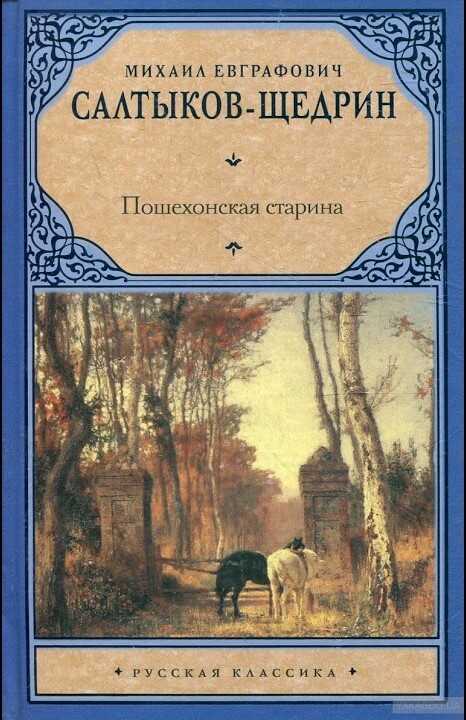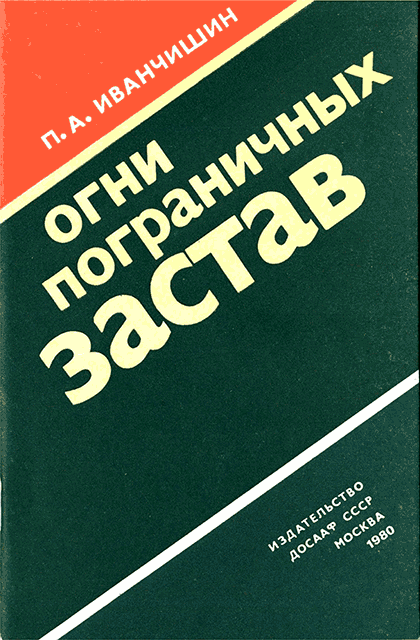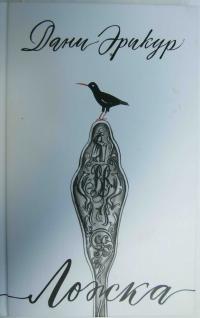Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Пошехонская старина» – последнее произведение великого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина – представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи. По словам самого Салтыкова, его задачей было восстановление «характеристических черт» жизни помещичьей усадьбы эпохи крепостного права.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин»: