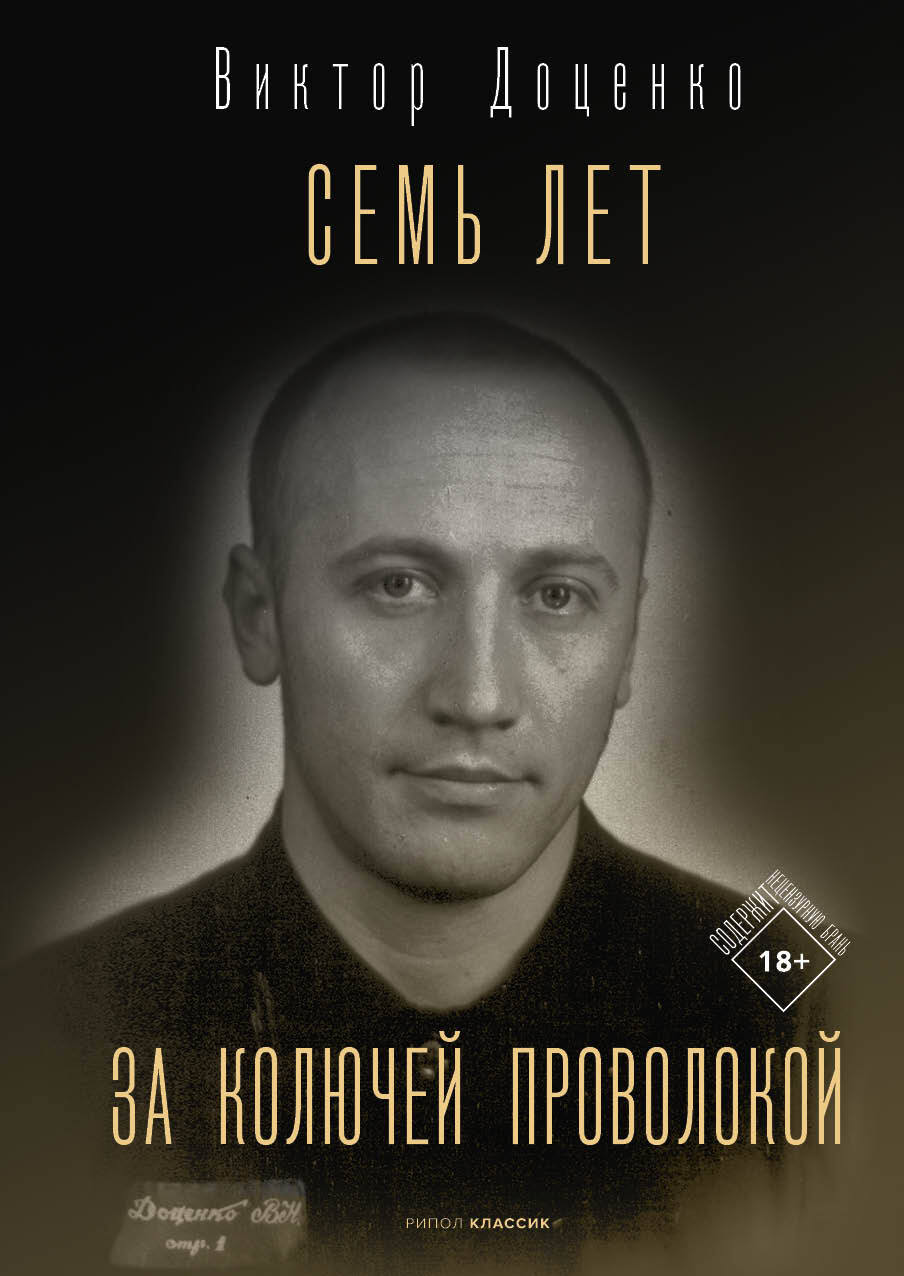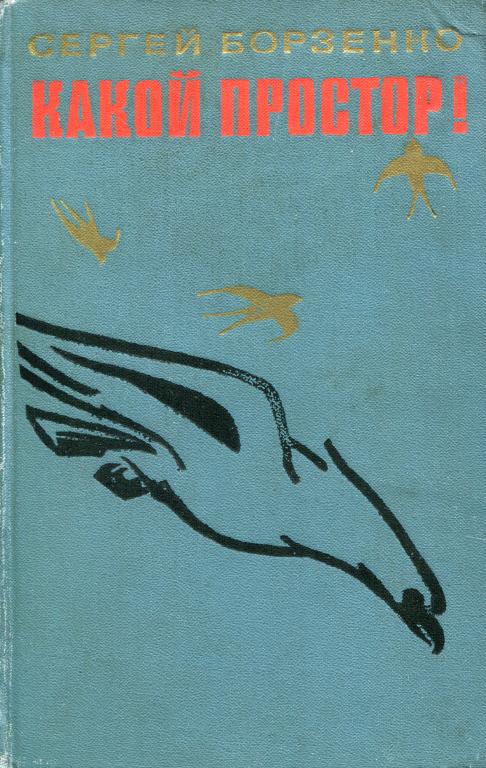Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Хизмет Абдуллин — один из видных уйгурских советских писателей, ярко проявивший себя за последнее десятилетие. Им созданы книги повестей и рассказов — «Узелки», «Орлы на вершине», «Неукротимый бубен», романы «Под небом Турфана», «Земляки», несколько сборников стихов и поэм. В предлагаемую книгу включены роман «Под небом Турфана» и ряд рассказов. В этих произведениях получили художественное реалистическое отображение история освободительного движения уйгурского народа, его участие в революции и в Великой Отечественной войне. Действие романа «Под небом Турфана» происходит в Китае, в его национальных окраинах. Автор разоблачает проявления великоханьского шовинизма, умаление национального достоинства «малых» народов Китая.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Хизмет Миталипович Абдуллин»: