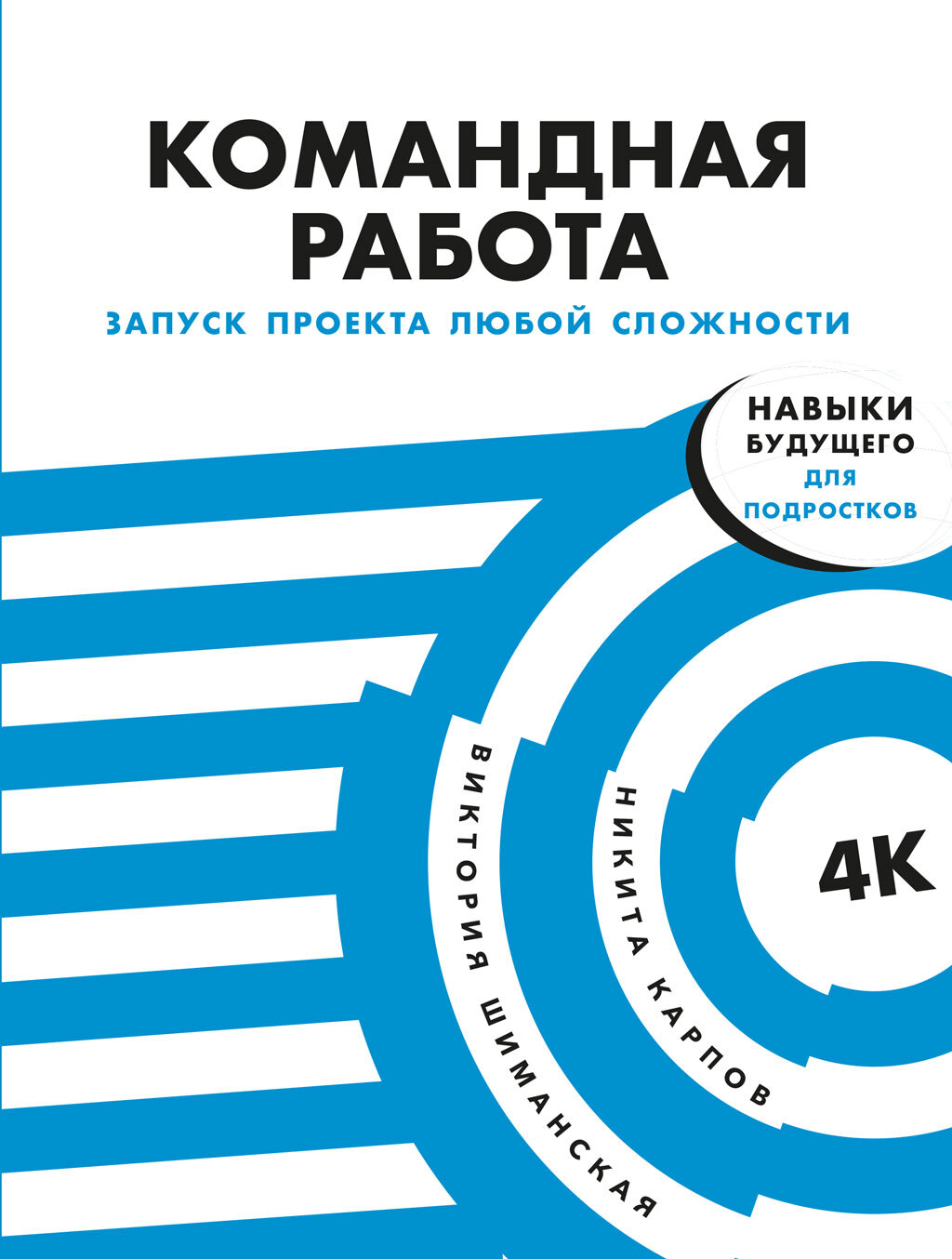Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Психологический триллер о современном глобальном мире и методах управления им, об известной конспирологической теории «золотого миллиарда» и путях её воплощения в реальность, о манипуляции сознанием людей, их жизнями и судьбами. Главный герой – врач Георгий Кратов, по прозвищу Гиппократ, – случайно узнает о глобальном заговоре врачей и в ходе своего расследования попадает в таинственный Городок, где «мировая закулиса» готовит кадры для «генеральной уборки планеты».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Сазанович»: