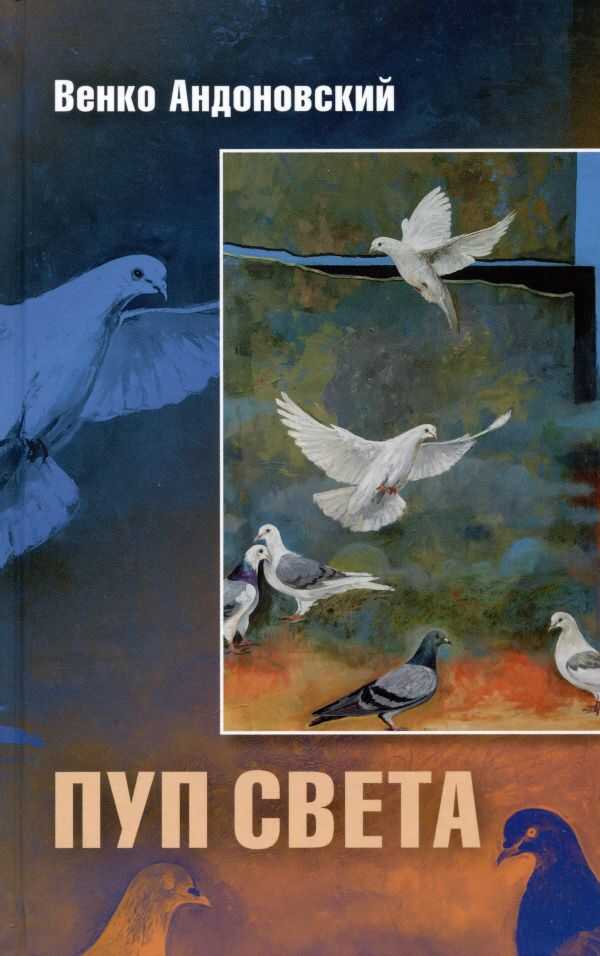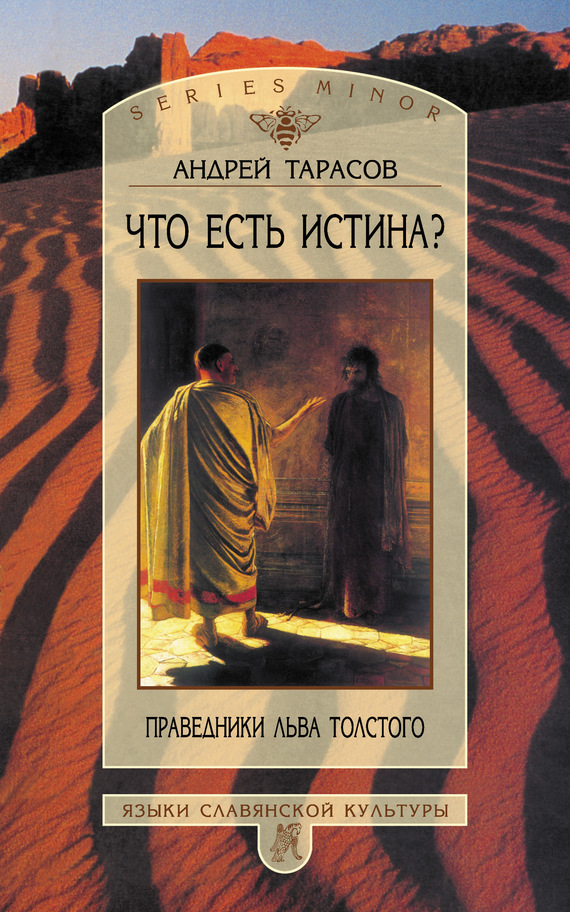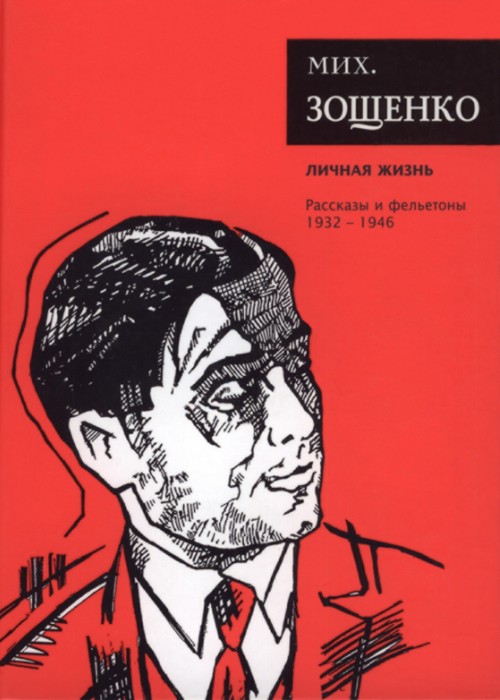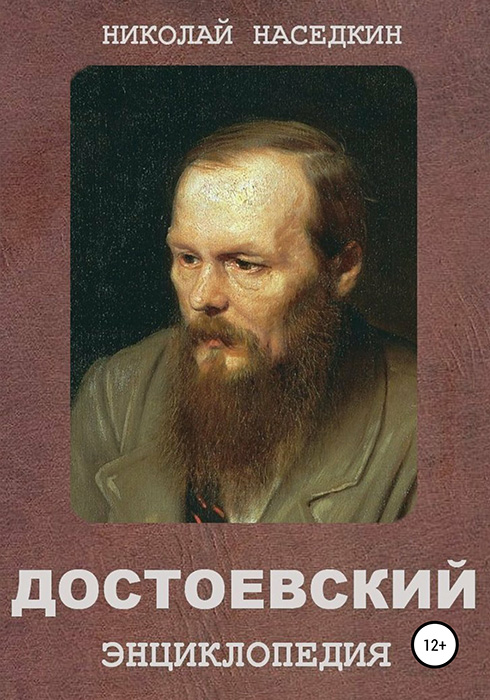Шрифт:
Закладка:
И когда он ещё раз произнёс то же самое, совершенно разборчиво, во мне вскипел гнев. Не осознавая, что я делаю, я услышал, как одна за другой щёлкнули кнопки освобождения тормозов. Кто-то другой во мне один за другим нажимал ногой на красные пластиковые защёлки на коляске, которые по очереди освобождали первое большое колесо, второе большое колесо, первое маленькое переднее и, наконец, второе маленькое переднее. Четыре «клика».
Тормоза инвалидной коляски были отпущены. На краю обрыва. Перед бездной пасти дьявола.
Я ощущал непреодолимое желание толкнуть этот безногий голос туда, где ему и было самое место: в пасть дьяволу. Но в следующее мгновение небо раскрылось, и в образовавшуюся узкую щель (было вёдро, на небе ни облачка) я узрел, будто через трещину лопнувшего пасхального яйца (у меня было чувство, что весь мир был яйцом, и я был в нём), пуп Иисуса с распятия и рану от копья; это была показавшаяся лишь на мгновение чудесная небесная фреска, от которой я увидел только часть; я был уверен, что именно в этот момент живописец Мелентий в маленьком городке в провинции заканчивает фреску с изображением распятия Христа в церкви Святой Троицы, потому что его пригласили снова, после того как тендер с лукавым не удался. И хотя я не видел всего Распятия, а только часть рёбер и Его пуп, я увидел другую, почти прозрачную пуповину, которая шла к небу, наверно, к его Отцу; и я услышал, как Христос изрёк сухими и растрескавшимися губами: Или, Или! Лама савахфани[8], и в этом моём видении я потом распознал трёх ангелов в белом, с золотыми серпами в руках, перерезающих пуповину между Сыном и Отцом; и увидел, как от той перерезанной пуповины, из того самого места, где её перерезали, из пупа Христова, на меня сошёл луч света, света древнего, как старое и непревзойдённое вино, не такого света, что в одном месте красив, а в другом некрасив, и не такого, что в одно время красив, а в другое время некрасив; это был свет с ароматом ладана, базилика и мирры, свет, к которому можно было прикоснуться, который был так же гладок, как Младенец, когда он родился и когда Пресвятая Богородица впервые погладила его по щеке; это был свет, в котором слышалась тишина невинного мира, свет со вкусом просфоры и вина, тела и крови Христовых, такой, что долго путешествовал от Пупа света ко мне и пришёл сюда только для меня и ради этого мига сильнейшего доселе искушения. Он явился укрепить меня как прочнейшую твердыню, которую не берут стрелы злобы, суетности и гнева. Небеса открылись всего на мгновение; луч осветил меня, не умер и не превратился ни в какой цвет, но всё на мне и вокруг меня сияло, как нимб, светом ослепительным и белым, как пречистая невинность; потом он исчез во мне, будто став жильцом моего чрева и сердца, будто окончательно просветив мою скорбную и грешную душу, и уже в следующее мгновение я повернул коляску и решительно толкнул её назад, к высотам плато. Бездна, пасть дьявола за моей спиной остались пустыми, дьявол остался без пищи, а я толкал коляску всё быстрее и быстрее, как бы убегая с того страшного места, невзирая на то, что мой груз протестовал, опять совершенно невнятно произнося: «Не… ачу… туда…!»
Когда я наконец поднялся на плато, где подход к обрыву с каменистой дороги переходил в траву, он закричал: «Чоооки! Чоооки!», и я заметил, что у него в руке нет чёток. «Ани… тааам!».
Я повернулся и метрах в двадцати от нас, на самом краю пропасти, увидел чётки. Пошёл за ними решительным шагом, чтобы не оставить их перед нечестивыми устами дьявола. И совершил роковую ошибку.
Я нагнулся и взял их, а когда обернулся, то увидел страшное зрелище: на меня со скоростью локомотива мчалась коляска с ним. Я забыл заблокировать её, побежав за чётками. Он толкал её своими всё ещё сильными руками с напряжёнными бицепсами, изо всех сил крутя колёса на взлётно-посадочной полосе из вулканического камня, и коляска набирала скорость с каждым взмахом ладоней. Наклон и инерция делали своё дело: он мчался ко мне, как товарный состав. Лицо его было искажено, на нём не было и следа от былого выражения парализованного флегматика, раскаяния и молитвенного равнодушия, бесстрастного молчания. Это было то же отвратительное, циничное, ожесточённое лицо, лицо человека из соломы, сгорающей в одно мгновение, это было то же злобное и одутловатое лицо того, кто кинул в меня бутылкой из пьяного автобуса, хитрое, гнилое лицо того, кто заставлял меня встать за оконной рамой, чтобы выглядеть как Мона Лиза в красной фуражке, это было лицо того насильника, который предложил мне десять евро за секс в моей постели со шлюхой, с которой они стояли перед моим тогдашним монастырём, лицо того, кто хотел всё для себя и ничего для других, кто хотел проглотить последние квадратные метры мира, не принадлежавшие ему, это было геморроидальное и злое лицо Клауса Шлане, и мне даже показалось, что я увидел пульсирующую вену на шее, которая теперь была шеей датчанина; в конце концов, это было то самое лицо, которое нависало над Лелой, когда он как животное входил в неё своим огромным фаллосом, который употреблял весь мир, насаживая его на штырь, как ресторанные счета в старых заведениях на Балканах.
Это было лицо того, чьё имя нельзя упоминать: лицо неназываемого.
Он летел в своей инвалидной коляске прямо на меня, и я не понимал, действительно ли он хотел покончить с собой, потому что это оставалось для него единственным действием, в котором он видел смысл, или хотел, чтобы меня обвинили в его убийстве; я вспомнил слова аввы Илариона в Кутлумушском монастыре: «Если он тебя не победит, то убьёт себя, сам себя осудит, потому что честолюбие съедает само себя»; всё это смешалось у меня в голове, но впервые во мне родился не человеческий, а Христов гнев, потому что если он