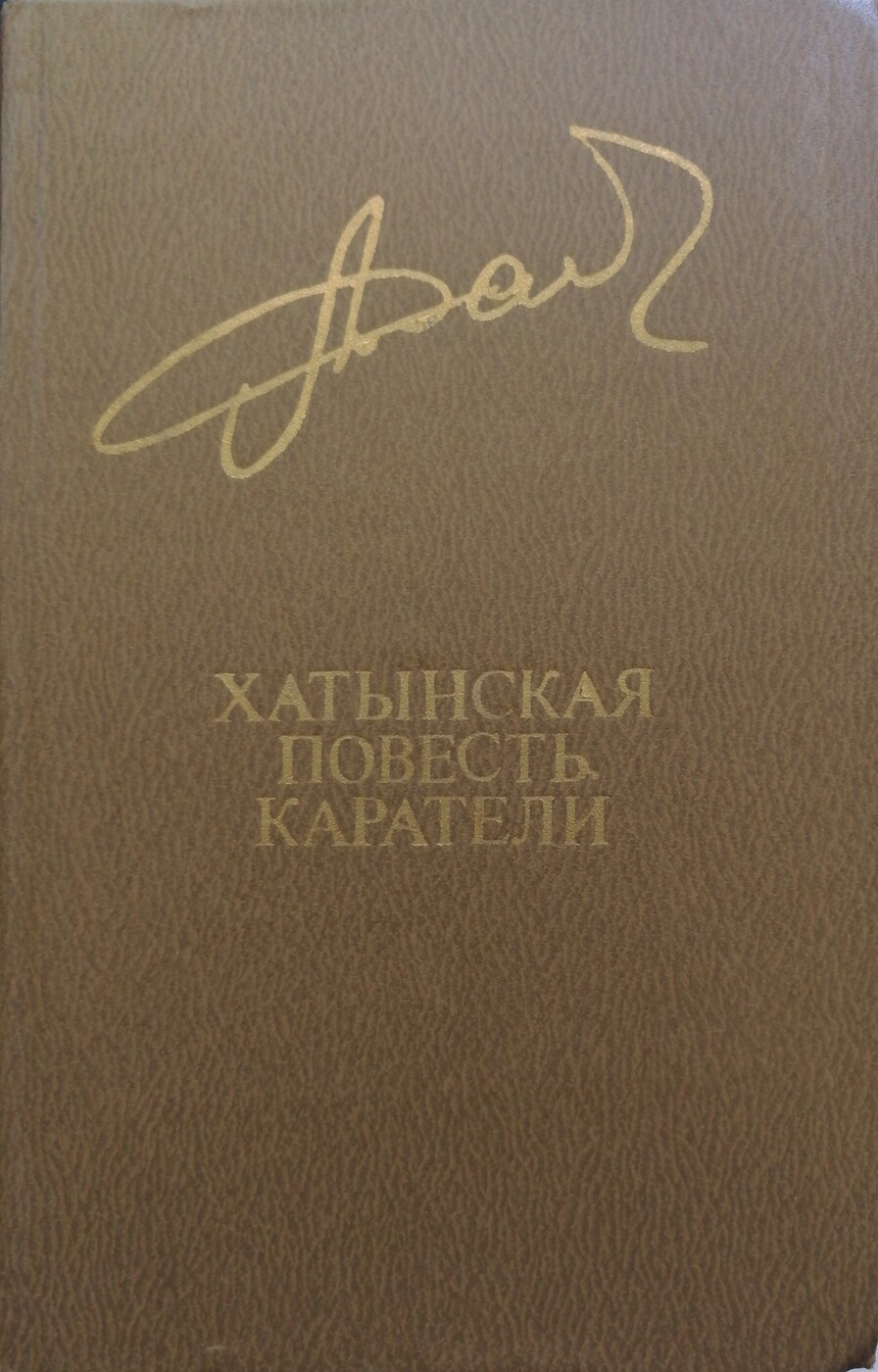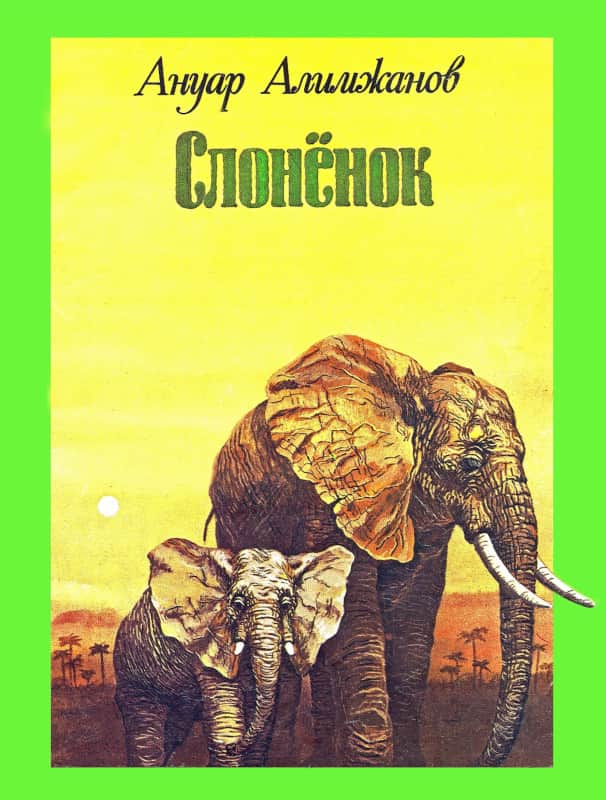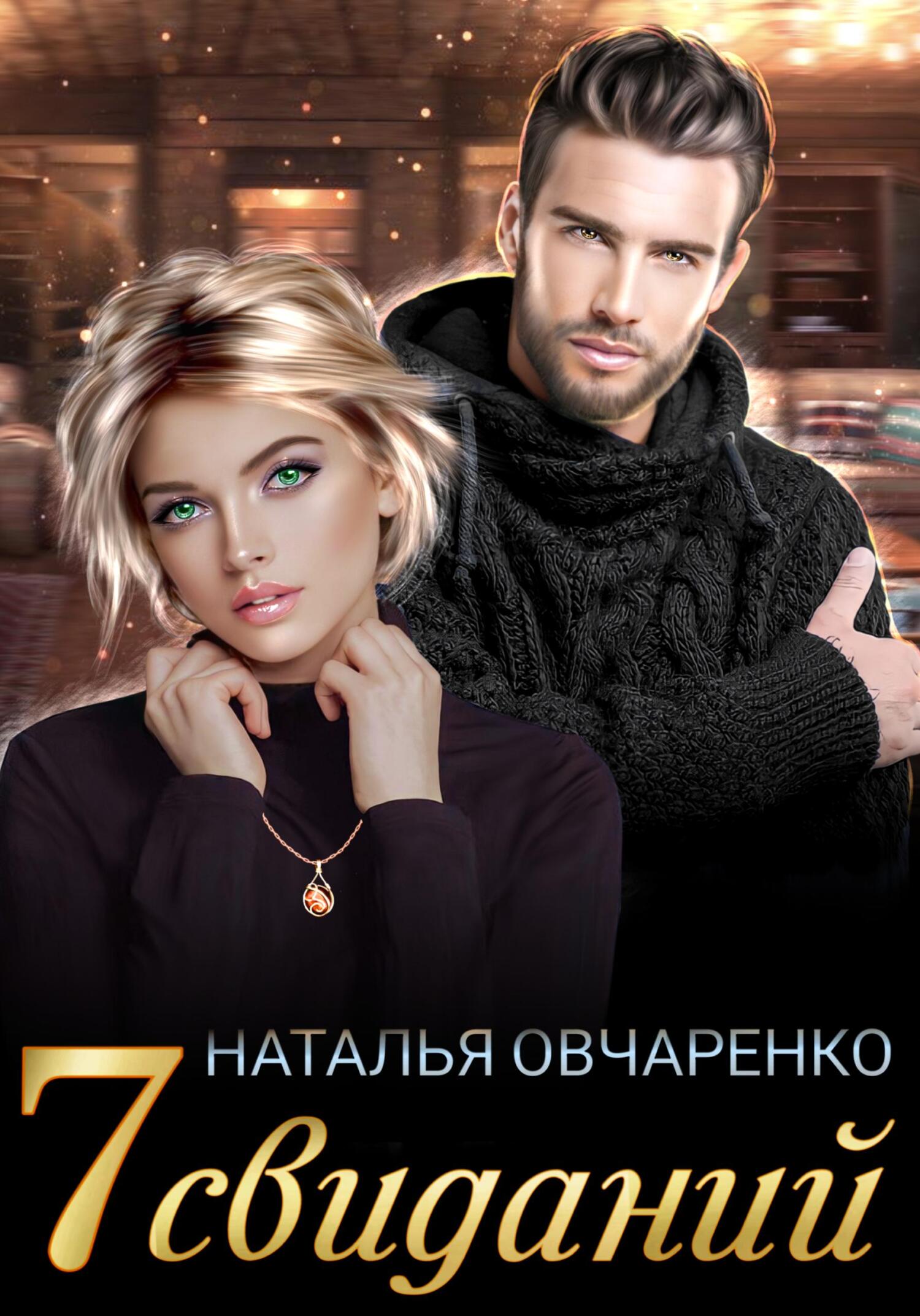Шрифт:
Закладка:
Тупига старался не заслонить солнечного луча, ему не хотелось, чтобы его видели. Но его шаги услышали, и голый, пухлый, преследуемый солнцем, мухами, ужасом ребенок уже кричал — так, что и в другом конце деревни услышат. Тупига, как пойманный, отступил к порогу, пулемет упрямился — напоминающе оттягивал шею, но люлька такая легкая, раскачивается, и ему почему-то страшно бить из пулемета. Наган шершаво, прохладно схватил его пальцы, припал к ладони и вздернул руку на уровень лица! По-живому вздрогнул — раз и еще раз…
Тупига направился к выходу и вдруг увидел самого себя: громоздкий, с упавшей на плечо головой, оседланный пулеметом, с лицом испуганным, а в руке наган!.. Позади раскачивается люлька, и он, не поворачиваясь, ее видит. И видит, как на белый от солнца пол падают, брызгая, огненно-яркие струйки. Ударил револьвером (и больно — косточками пальцев!) по всему этому: открывшаяся зеркальная дверка шкафа со звоном ослепла. А Тупига сказал и сам услышал, как незнакомо, откуда-то из будущего, прозвучал его голос: «Жалко было, пацана пожалел! Живым сгорит».
Между третьим и четвертым поселками
Белый Николай Афанасьевич, 1920 года рождения, русский, из села Бахчевка Красноярского края. Окончил лесотехникум.
Что надо Белому, командиру взвода, который переформируется в новую, «русскую», роту, отчего он такой мрачный, такой с виду больной, а сегодня просто злой, об этом знает в целом мире только Суров. Он старается рядом шагать, и с самого начала войны они почти все время оказывались рядом, в одной баланде варились. Друг о друге знают все. Раньше близость к взводному, с которым считался даже ненавидевший его командир роты, украинский гауптшарфюрер Мельниченко и которого немец Циммерманн открыто уважал, — особая близость к этому человеку раньше Сурова и грела, и придавала уверенности. Сейчас пугает. Что-то произошло, происходит с Белым. Надо бы поговорить, как прежде, выяснить, уточнить планы, но неприязненные, ставшие какими-то рыжими глаза Николая отталкивают все дальше, не подпускают.
Они почти рядом идут, но вражда шагает между ними.
Белый, косясь, видит своего очкарика, своего «ксендза», своего «политрука», и злоба, как похмелье, как тошнота, ворочается в нем. Ишь какой чистенький, румяный. Очки добыл себе немецкие, золотые, от них еще больше блестит, такой аккуратненький. А почему бы и нет, за спиной, на горбу у Белого можно сколько угодно охорашиваться. Белый — человек конченый, терять ему нечего, — но еще годится, чтобы напоследок им обтереться. Ну нет, еще посмотрим, милок! Чует, чует кошка, чье сало съела! Чуть глянешь в его сторону — золоченые глаза хоть и обиженно, но по-прежнему бодренько подтверждают, что все идет, как прежде. Он здесь, твоя чистая совесть с тобой, все идет как надо! Шло, шло и пришло — так оно, товарищ ксендз! Самое время кончать эту музыку. Короткая кишка оказалась у тебя. Да и моя тоже, что уж тут прятаться. Одним дерьмом измазались, и нечего притворяться, мой ксендзок. До чего же и правда похож! После тридцать девятого прислали одного в леспромхоз. На плечах замызганный бушлат, а на носу вот такое золото, и на каждом шагу: «Може пан бенде ласков!» И все молитвы свои шептал.
И этот! Весь в немецком, до подштанников, в дерьме по уши, а все не забудет, кем был когда-то.
Вот он шагает, спутник-агитатор! Все, ваша святость, обоим нам кранты.
Не одному мне, но и тебе.
Суров встревоженно поглядывал на своего шарфюрера и бывшего друга. Да нет, не «шар», а уже объявлено, что «гауптшар» и командир новой, «русской», роты, которая будет формироваться. В этом все дело, здесь и собака зарыта! Видно, надумал новый гауптшарфюрер окончательно на сторону немцев переметнуться. А все сваливает на случай с партизаном-разведчиком. И на Сурова — как же, он виноват, что не вышло, не получилось, как распланировали, что и на этот раз в лес уйти не удалось. Не вышло, верно, но что поделаешь, если сорвалось. И очень жалко парня, разведчика партизанского. Но недолго же ты жалел, утешился «гауптшарфюрером»! За эту операцию и получил. За поимку партизана. Не Сурова наградили, Белого, и можешь так на меня не смотреть!
Просто решил делать немецкую карьеру, и ясно, что Суров ему теперь ни к чему. Выдать вряд ли решится: побоится, что из Сурова выбьют больше, чем хотелось бы. Сделает проще: залепит автоматную очередь в спину во время боя, и похоронят «иностранца Сурова Константина Викторовича» с немецким салютом. И останется он для всех и навеки предателем, немецким прихвостнем. Один Белый будет знать, что не был Суров предателем, не был карателем, — вот еще ирония, самая злая!
Суров и Белый познакомились еще в армии, но сблизил их плен. Оба бывшие командиры, но старшина Суров в мае сорок первого окончил еще и краткосрочные курсы в Смоленске. Тогда все учились на краткосрочных — не хватало в армии младшего командного состава. Под Рогачевом полк попал в окружение. Всех, кто им почему-то не понравился, и евреев немцы перед строем поубивали в первые же дни плена. Суров оружие оставил в лесу вместе с гимнастеркой. Но убеждения, конечно, сохранил. И жизнь, которая еще могла пригодиться. Его не выдали, хоть многие солдаты в лицо знали младшего лейтенанта. Значит, одобрили его поведение. Стать под расстрел по-дурному — это не самое мудрое, верное решение. Хотя некоторые так и сделали. Ладно, старики, так и одногодки его, с одним-двумя, как у Сурова, кубарями: себя хотели показать, а показали безграмотность свою! Политическую, военную!
Не случайно Белый к нему потянулся в Бобруйском лагере. Почуял твердость убеждений. Это при хороших калориях таким, как Белый, все нипочем. Весельчаки, душа нараспашку, спортсмены! Но именно таких голод первыми и догоняет, ломает. Маленькие, щупленькие еще держатся, а недавние медведи уже смотрят тупо-удивленно, тоскливо, тихо безумеют. Бобруйский лагерь, крепость! — кто прошел через эта и, выжил, не сошел с ума, того ничем уже не удивишь, не испугаешь. Но с чем никогда не свыкнуться — так это с неблагодарностью и глупостью людской. Что ж, видимо, пройти надо и через предательство друга, которого поддержал в трудную минуту, сохранил ему надежду. Такое уже время…
То же самое, те же события по-другому видел и помнил Белый.
Когда Николай Белый, спасаясь от голодной безвыходности и тупого ужаса, согласился