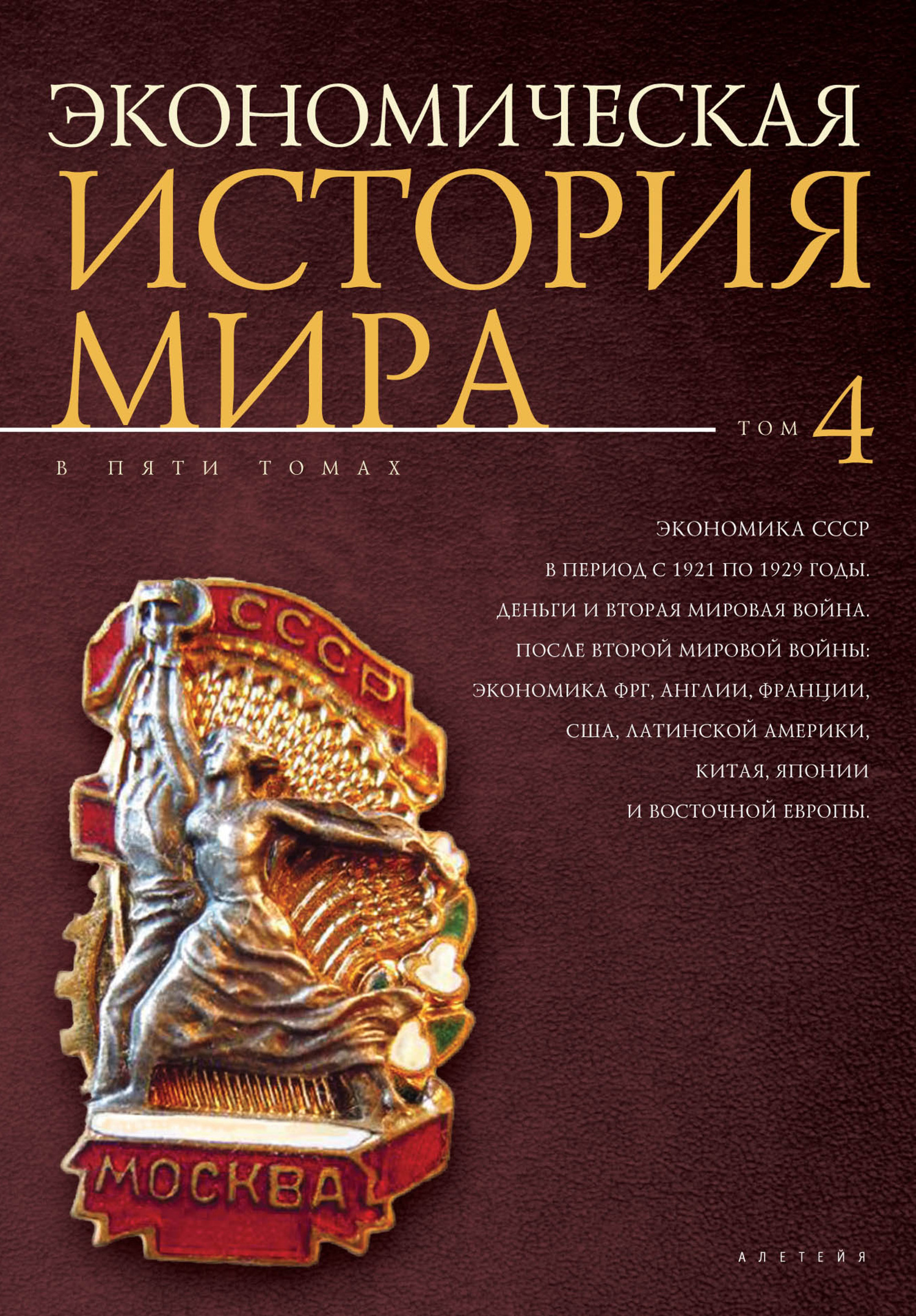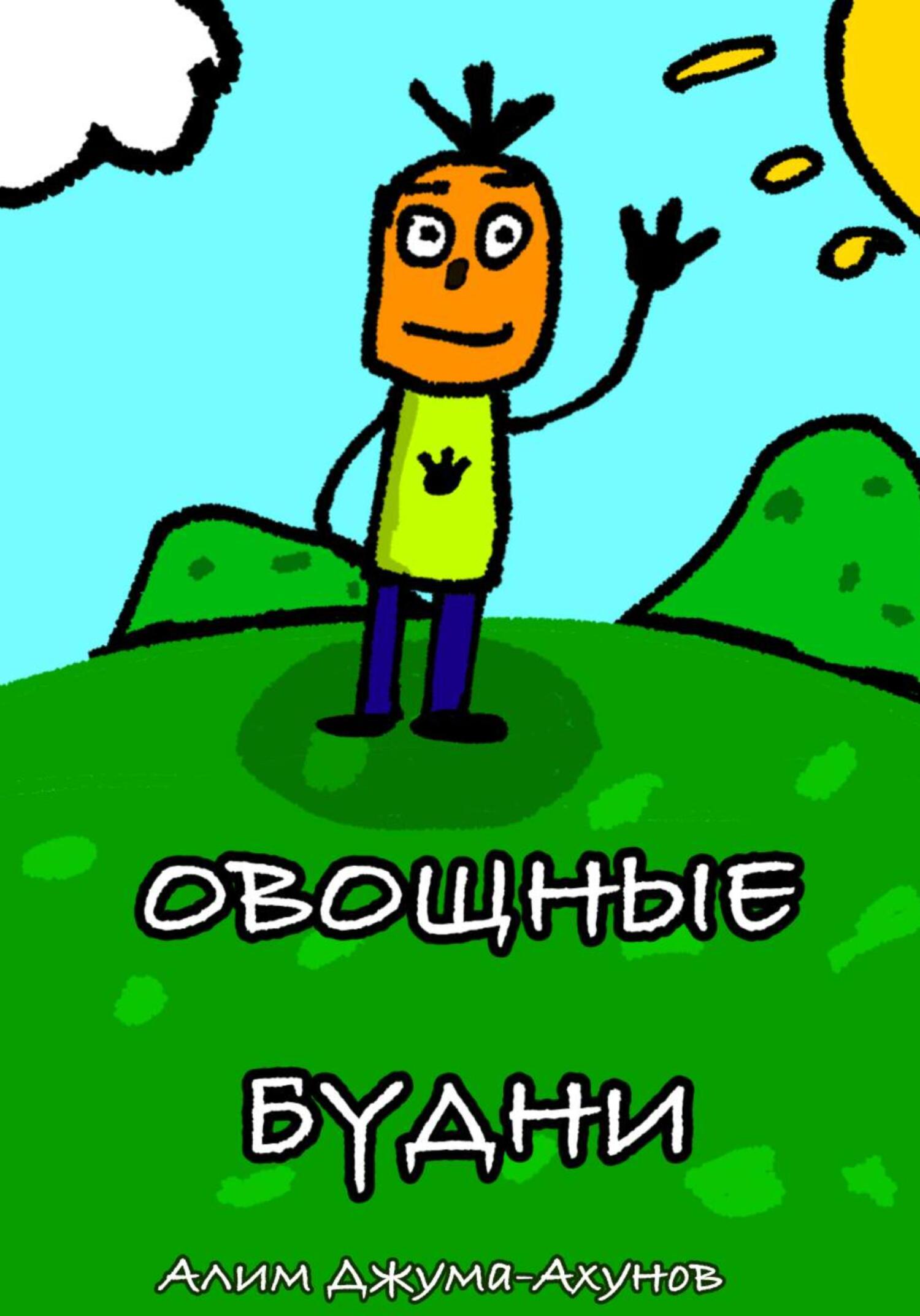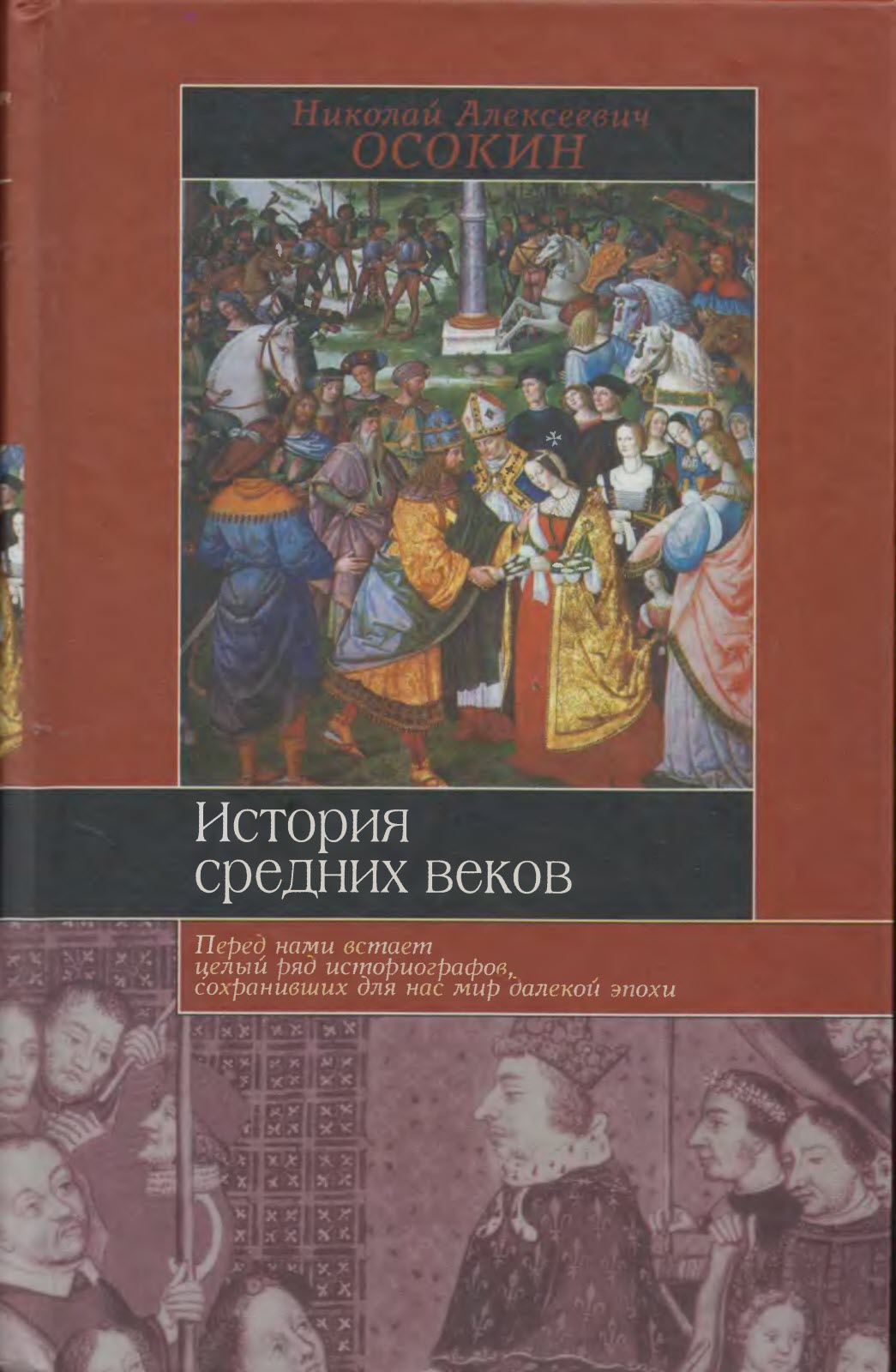Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Большой и увлекательный, научно-прикладной и образовательный, но некоммерческий интернет-журнал, созданный группой энтузиастов. Интернет-журнал содержит материалы, найденные в Интернет или написанные для Интернет. Основная тематика статей — то, что можно сделать самому, от садовых поделок до сверхпроводников, но есть и просто полезные материалы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Глуховский»: