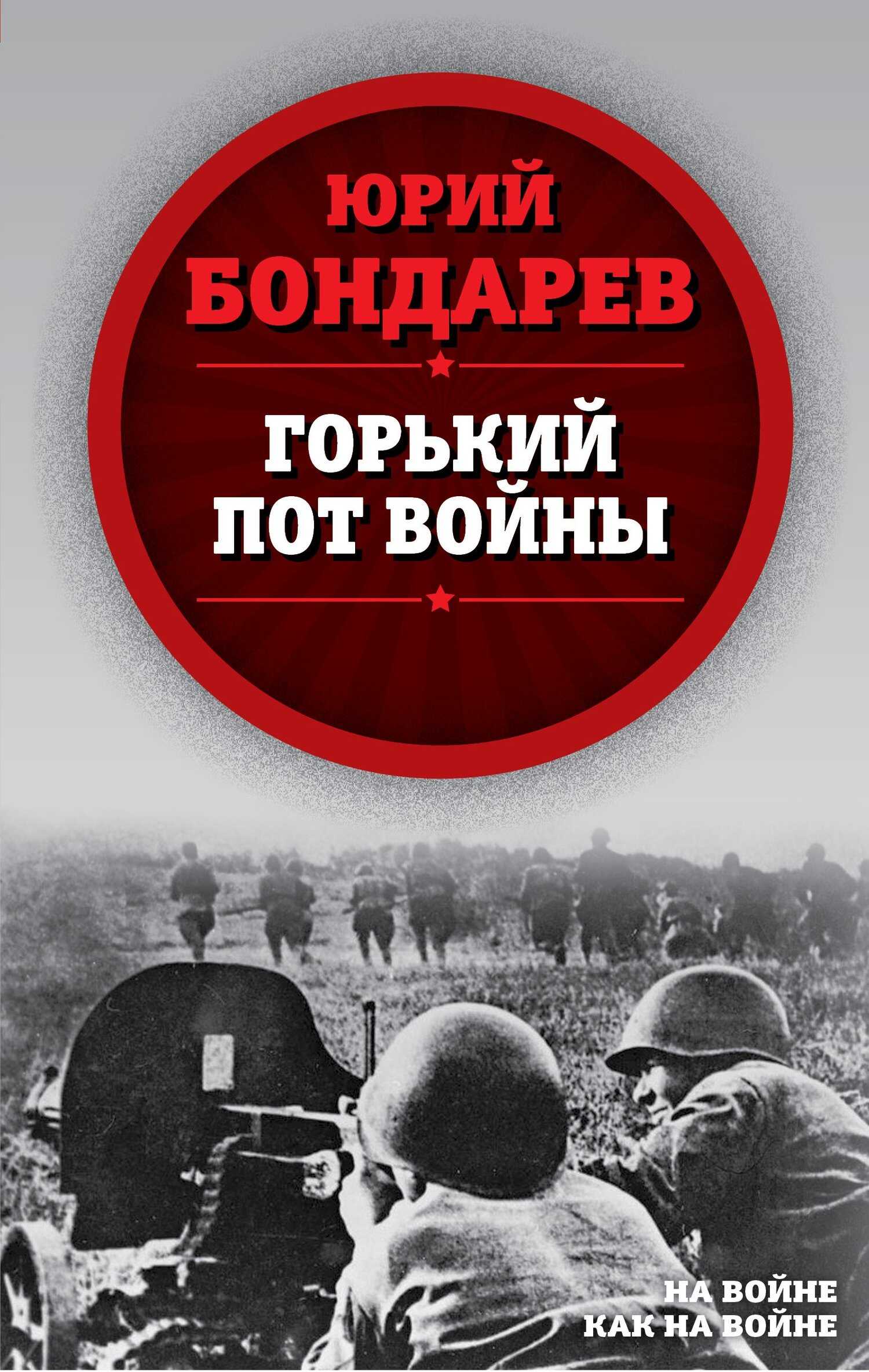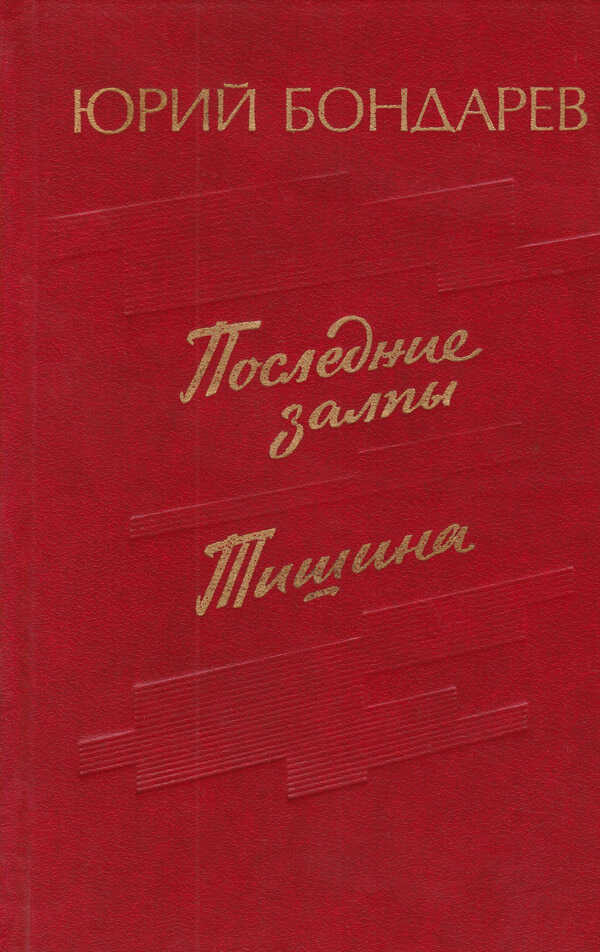Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В романе «Тишина» рассказывается о том, как вступали в мирную жизнь бывшие фронтовики, два молодых человека, друзья детства. Они напряженно ищут свое место в жизни. Действие романа развертывается в послевоенные годы, в обстоятельствах драматических, которые являются для главных персонажей произведения, вчерашних фронтовиков, еще одним, после испытания огнем, испытанием на «прочность» душевных и нравственных сил.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Васильевич Бондарев»: