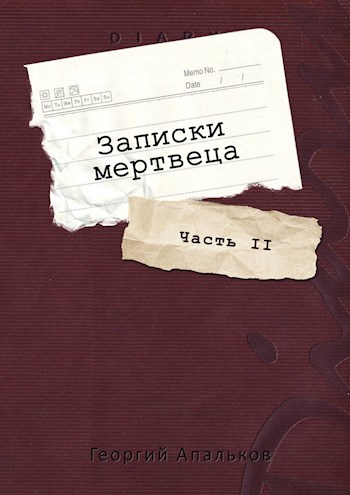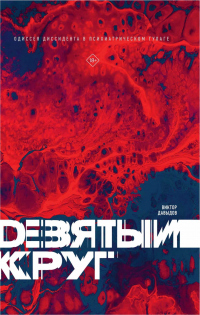Шрифт:
Закладка:
В тёмном, враждебном мире, где бал правят ожившие мертвецы, у героя остался лишь один человек, который ему дорог. Она затаилась в своём доме где-то там, на другом конце города, за ордами жаждущих крови безумцев, наводнивших улицы. Ему предстоит добраться до неё во что бы то ни стало. Удастся ли ему это? А если и удастся, через что ему придётся пройти прежде этого, и что они будут делать дальше? Город вымирает. Оставаться здесь - значит подписать себе смертный приговор. Молодым людям, всего несколько месяцев назад старательно готовившимся к совершенно другой жизни, предстоит вступить в противостояние с новым миром или погибнуть под его натиском. Как бы там ни было, герой продолжит вести свой дневник. До самого последнего вздоха.