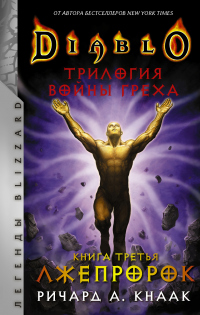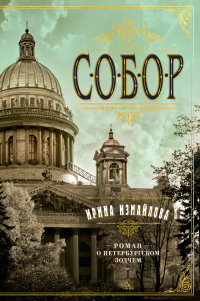Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
От начала времен небесное ангельское воинство и орды демонов из глубин Преисподней ведут нескончаемое сражение за будущее всего сущего. Ныне это сражение развернулось и в Санктуарии – мире людей. Преисполненные решимости склонить человечество на свою сторону, силы добра и зла ведут тайную войну за души смертных. Это история Войны Греха – конфликта, который навсегда изменит судьбу рода людского.Детище владык Преисподней, Церковь Трех пала. Теперь путь к освобождению рода людского Ульдиссиану преграждает лишь Собор Света, возглавляемый покорившим сердца многих Пророком. Однако на самом деле Пророк – не кто иной, как ангел-отступник Инарий, полагающий сотворенный им мир бесспорным своим достоянием. Перед лицом коварного врага, готового скорее уничтожить Санктуарий, чем выпустить его из рук, Ульдиссиан не замечает других претендентов, стремящихся к власти над его миром. Теперь о существовании Санктуария известно и Преисподней, и Небесам… и непримиримые воинства демонов и ангелов не остановятся ни перед чем, дабы завладеть им.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ричард Кнаак»: