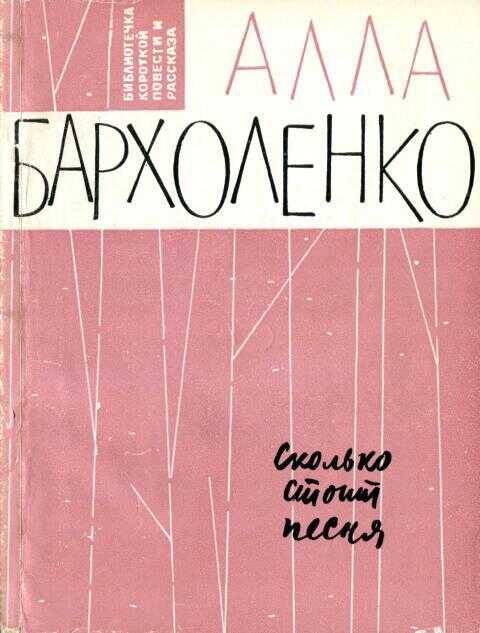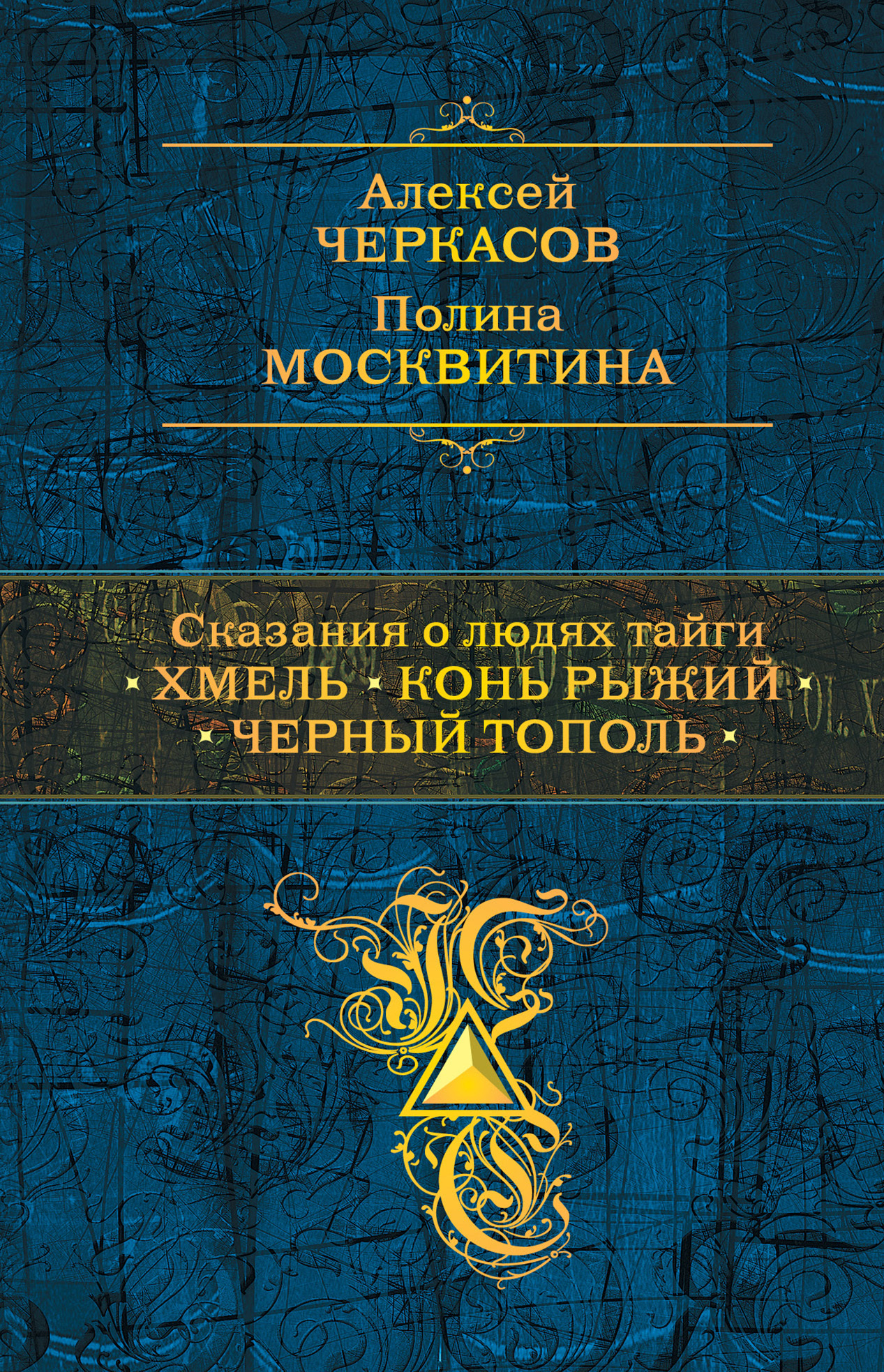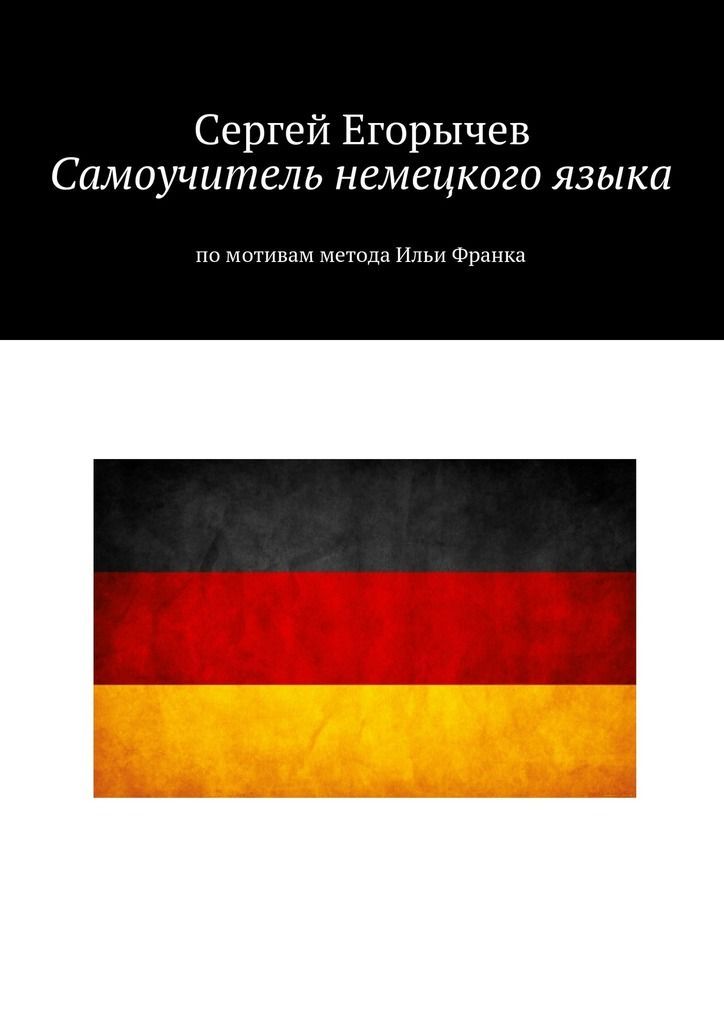Шрифт:
Закладка:
Алла Бархоленко — член Союза писателей СССР. Родилась в 1933 г. в г. Костроме. После окончания средней школы училась в педагогическом институте, работала воспитателем, медрегистратором, кассиром, продавцом в книжном магазине, много ездила по стране.Печататься Алла Бархоленко начала в 1965 г. Ее пьеса «Обуховке нужны чудаки» получила премию на Всесоюзном конкурсе, а газета «Пионерская правда» присудила первую премию рассказу «Отдых».Первый ее сборник «Сколько стоит песня» состоит из рассказов, написанных в разное время. Они объединены темой гуманистической морали советских людей. И это определяет их идейно-воспитательное значение.Персонажи ее рассказов любят труд, понимают его смысл и подходят к своему делу творчески, дерзновенно.