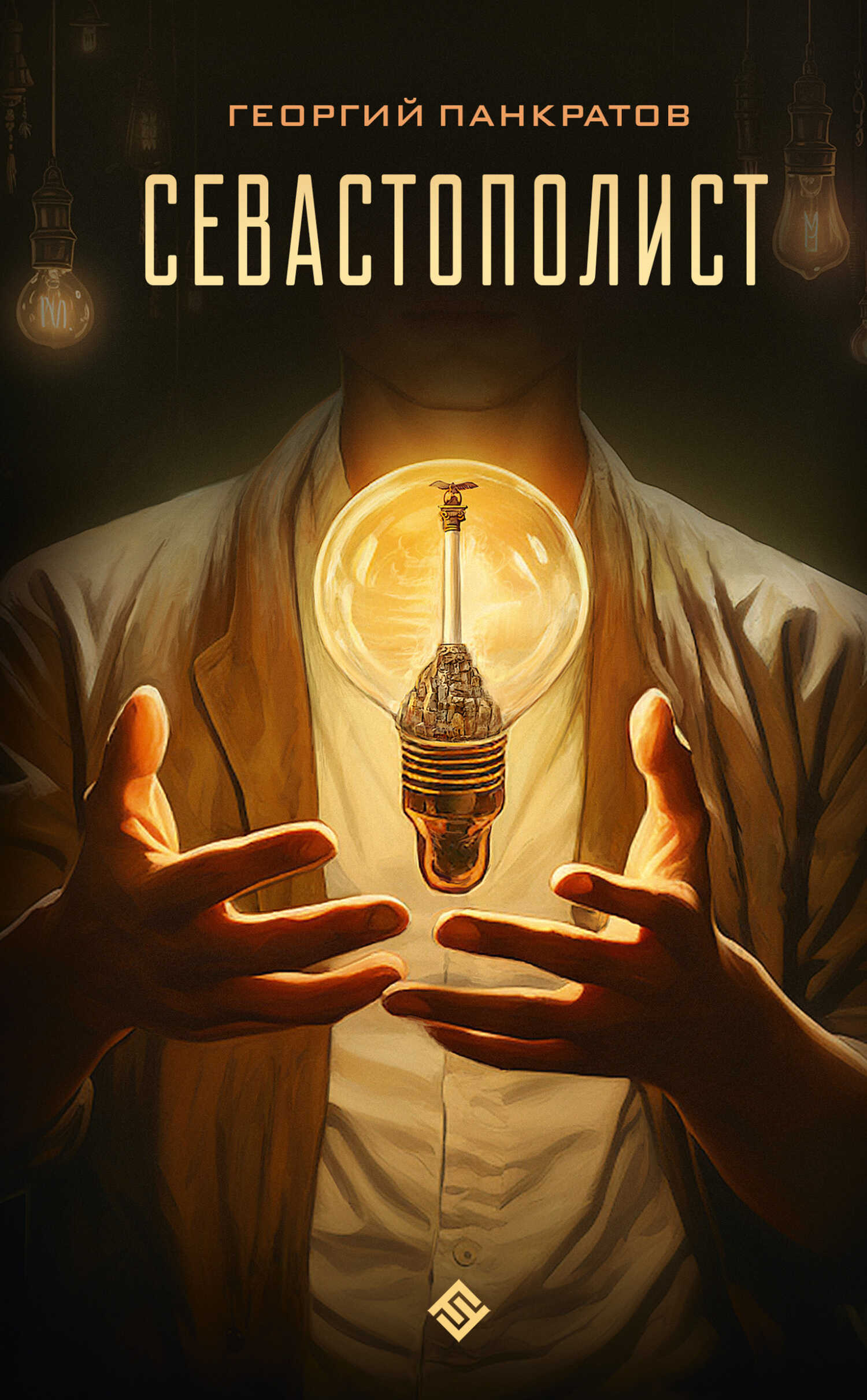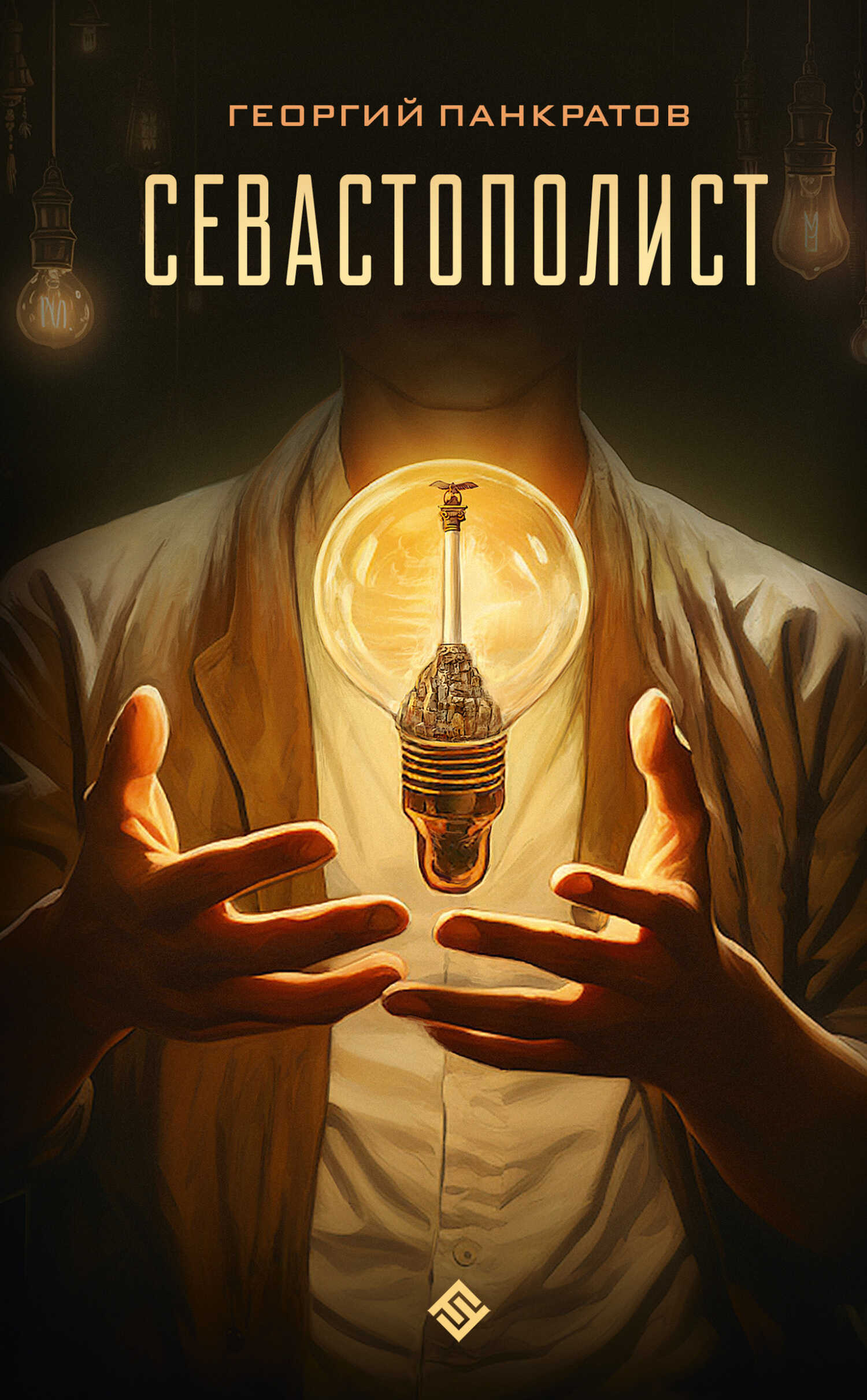Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Добро пожаловать в Севастополь – единственный город в мире, город, где все смотрят в небо. Здесь, в двухэтажных домиках с тенистыми садами, царит мирная беззаботная жизнь без каких-либо бытовых проблем. Из города нет выхода, но жители счастливы и не стремятся его покинуть. А на горизонте, у линии возврата, возвышается Башня, и никто не помнит, зачем она построена и что там находится.Пятеро друзей – Фиолент, Евпатория, Инкерман, Феодосия и Керчь – получают приглашение переселиться в Башню и начать там новую жизнь. Молодые люди давно томятся скукой родного города и мечтают найти ответы на свои вопросы о мире. Они с радостью поднимаются в Башню, хотя знают, что ни один из них оттуда не вернется.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Георгий Панкратов»: