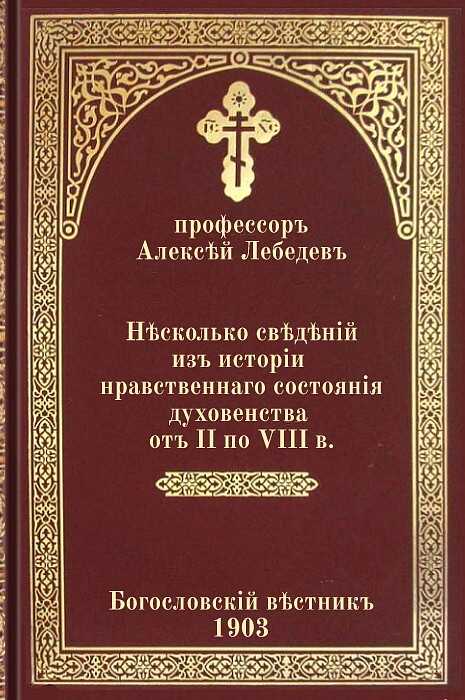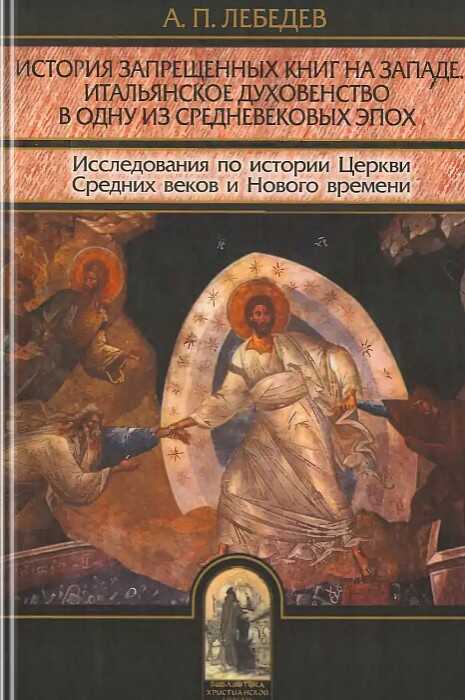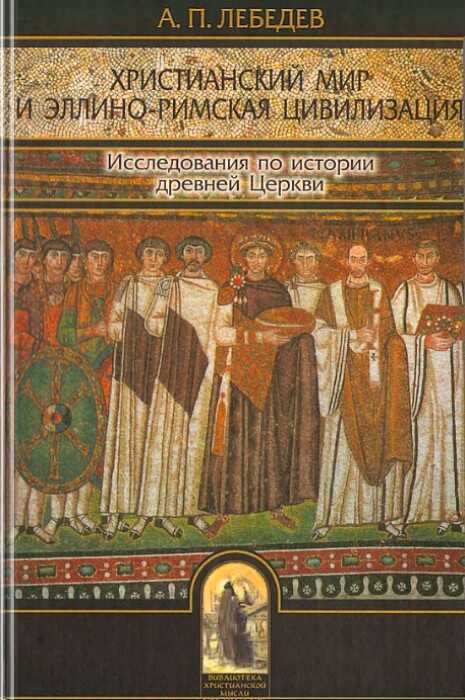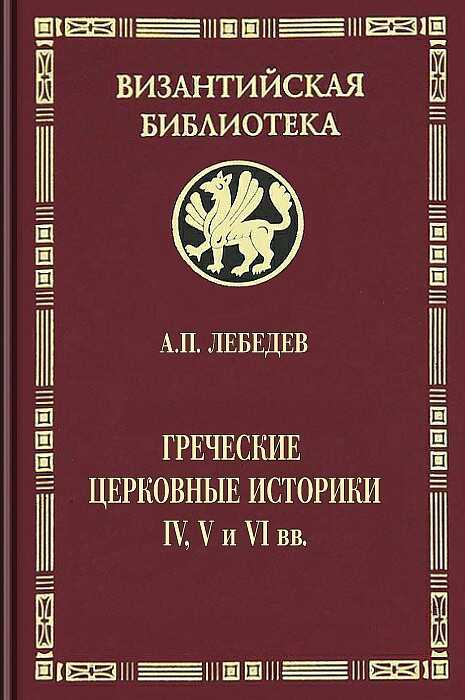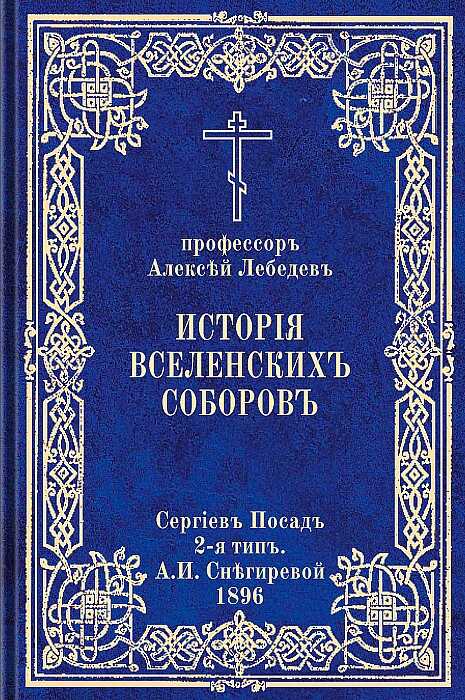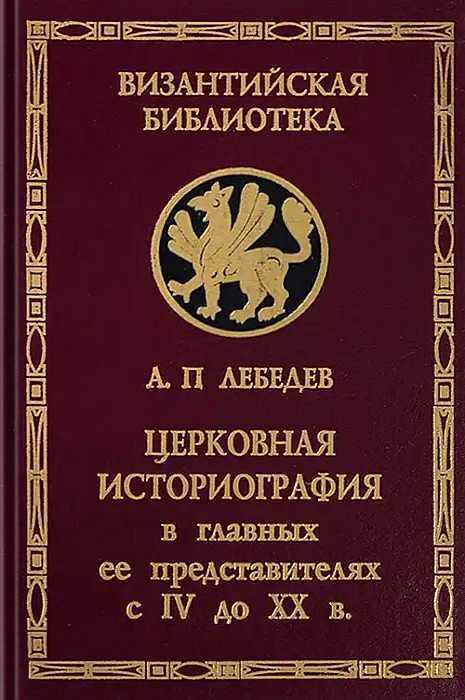Шрифт:
Закладка:
Эпоха Вселенских соборов — важнейший период в истории христианской церкви. Это время, когда церковь формировалась как институт, отвечала на внешние и внутренние вызовы, вырабатывала единую идеологию и догматику. Первые четыре Вселенских собора, история которых описана в первом томе труда А.П. Лебедева, сопровождались в высшей степени стремительным, оживленным и могущественным движением богословской мысли. В этот период сложилась организация церкви, ее методы в борьбе с вызовами, церковное законодательство. Все это воздействовало непосредственно на ход истории, на людей, причислявших себя к христианской цивилизации, на протяжении многих столетий, и продолжает оставаться актуальным до сих пор — во всяком случае, в церковной среде. Период Вселенских соборов дал христианской церкви удивительно ярких мыслителей, ораторов, проповедников и учителей — это все те славные мужи, которых стали называть святыми отцами церкви. Именно они сформировали святоотеческую литературную традицию. Первая часть настоящего труда была защищена в качестве докторской диссертации в 1879 г. и длительное время преследовалась по цензурным соображениям. Автор рассматривает церковную жизнь и религиозность Христианского Востока эпохи Вселенских соборов на фоне социальной и государственной жизни того времени. А.П. Лебедев стремится выявить взаимосвязи и соотношения явлений в истории Вселенских соборов. Он показывает, сколь существенным был разрыв между подлинной религиозностью и повседневной жизнью, шедшей практически независимо от тех канонов и предписаний, которые налагались церковью. Общество, несмотря на христианизацию, было поражено нравственными недугами. В книге описано, как церковь отвечала общественным потребностям и какие в этой связи в ней возникали духовные движения. Исследователь уделяет внимание социальной психологии, что позволяет в большой мере оживить историческое повествование, превратить строгий научный материал в захватывающий рассказ, раскрывающий духовные чаяния, мотивы поступков людей, внутренние пружины церковно-исторического процесса и истории Византийского общества того времени. Электронная версия текста представлена на сайте azbyka.ru.