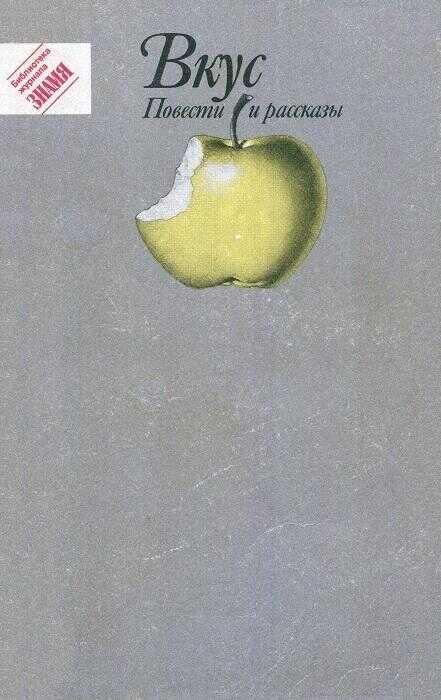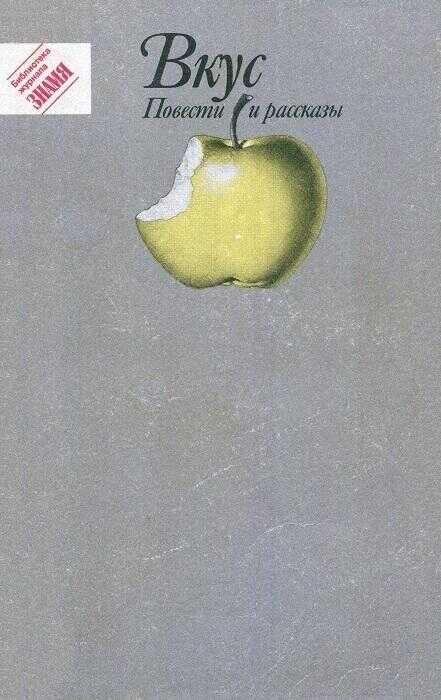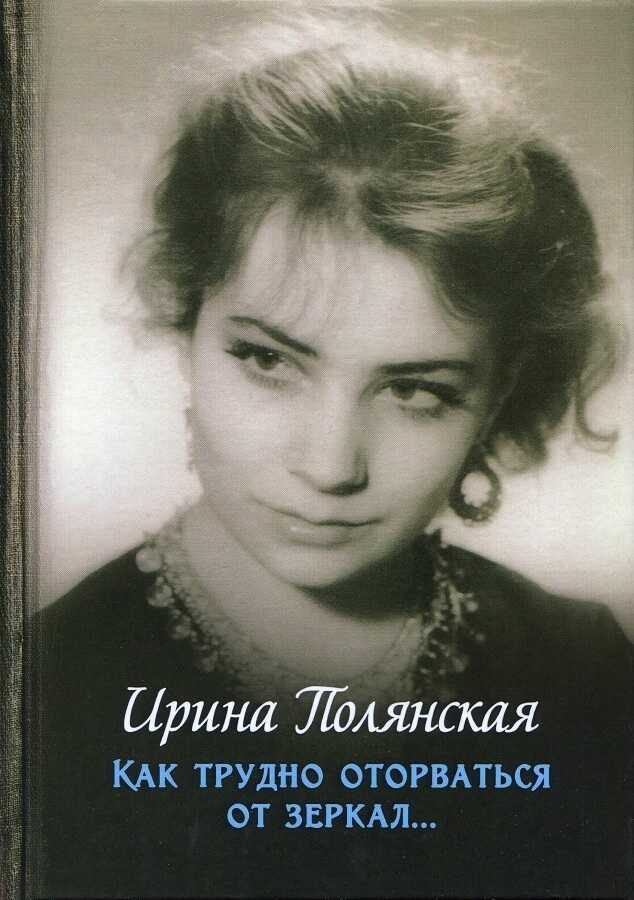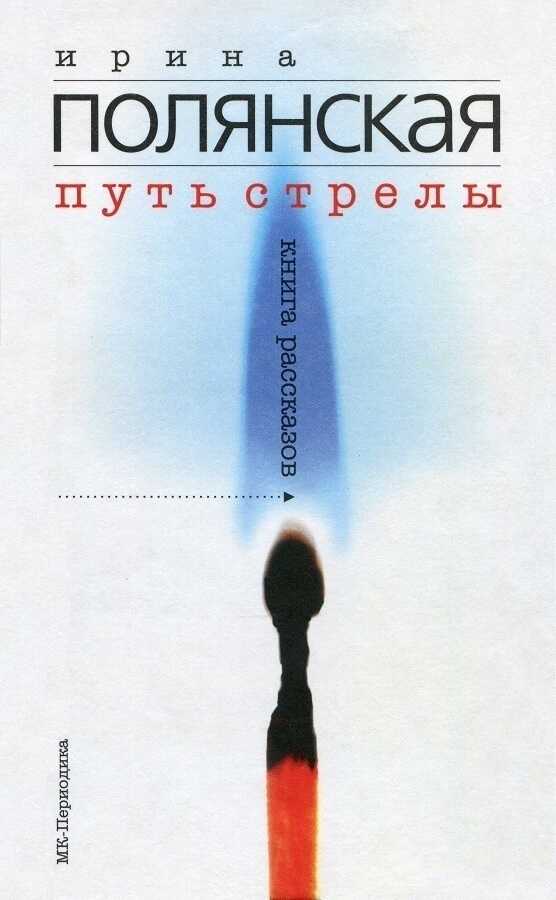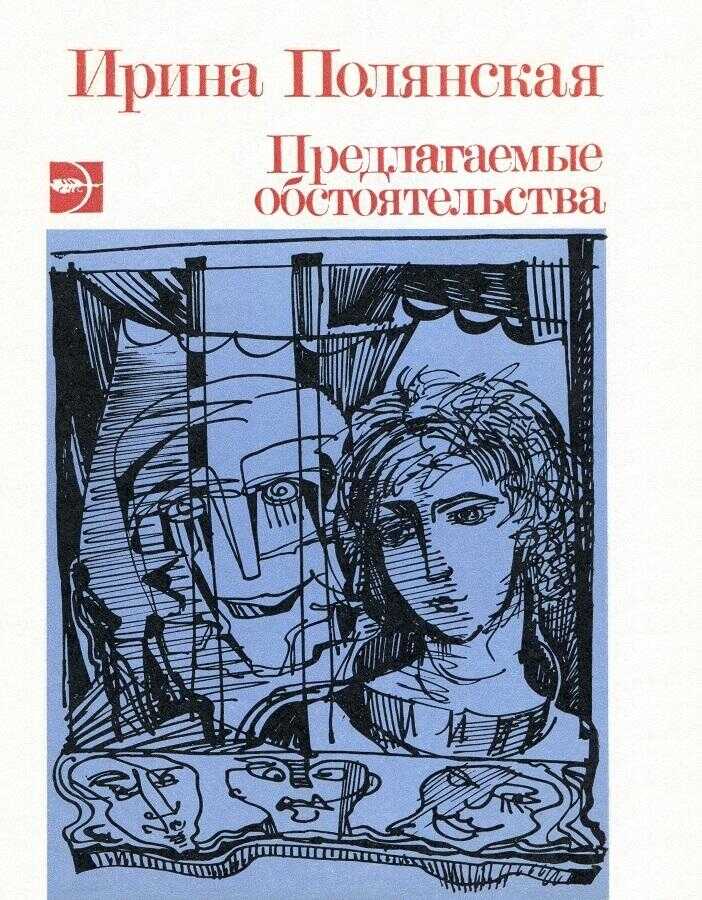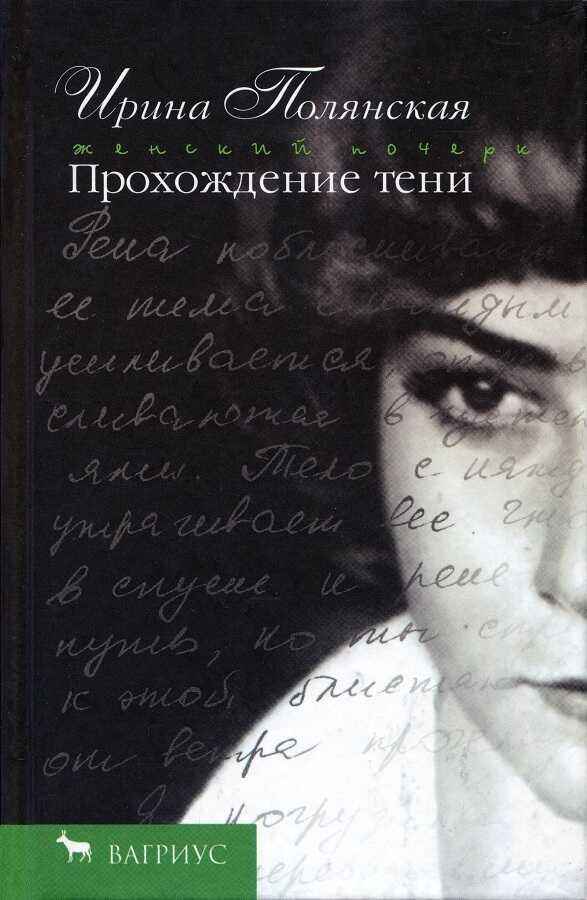Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Горизонт событий — это барьер в черной дыре космоса, где пространство подменяется временем, над которым мы не властны. Но это и жизнь героев романа, в многообразии судеб которых отражается наша история. При активном и творческом взгляде на жизнь границы постижимого мира расширяются за счет энергии наших мыслей и чувств — утверждает автор в своем трагическом и парадоксальном повествовании.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирина Николаевна Полянская»: