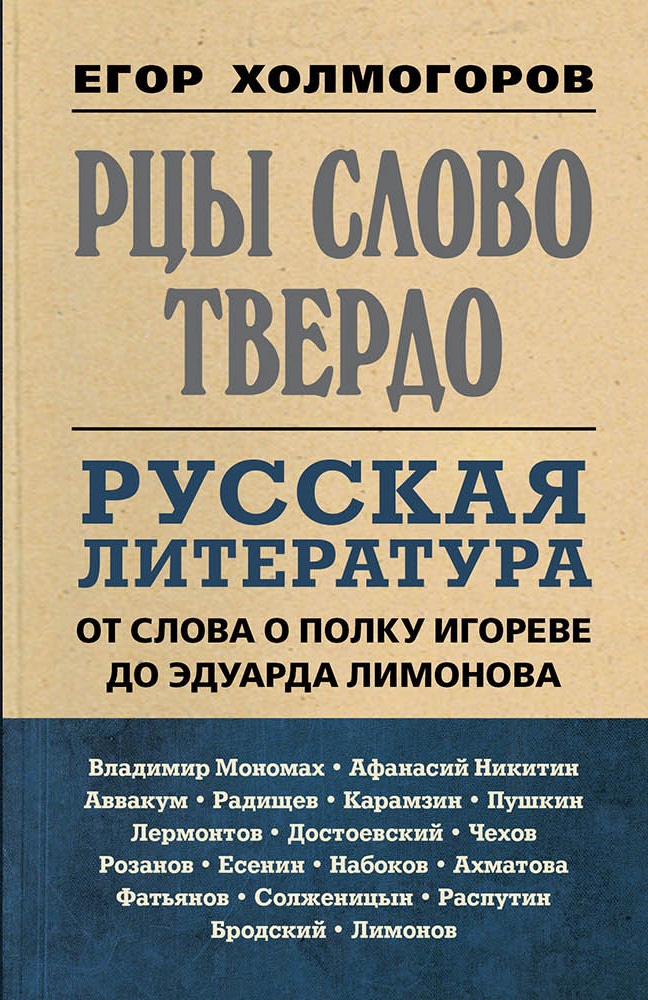Шрифт:
Закладка:
Книга «Кусочек жизни. Рассказы, мемуары» — это собрание лучших произведений Тэффи, русской писательницы и поэтессы, которая творила в самых разных жанрах: от юмористических рассказов и фельетонов до лирических стихов и переводов. В этой книге вы найдете как знаменитые произведения Тэффи, такие как «Демоническая женщина», «Ке фер», «Подружки», «Москва», так и менее известные, но не менее интересные и остроумные. Вы также познакомитесь с мемуарами Тэффи, в которых она рассказывает о своем детстве и юности в Санкт-Петербурге, о своей семье и друзьях, о своей творческой карьере и эмиграции, о своих встречах и переписке с известными литераторами, такими как Чехов, Горький, Бунин, Ахматова и другие.
Книга «Кусочек жизни. Рассказы, мемуары» — это уникальная возможность окунуться в мир Тэффи, полный ярких красок, тонкого юмора, глубокого понимания человеческой натуры и любви к жизни. Это книга для тех, кто ценит литературу высокого уровня и хочет узнать больше о русской культуре и истории. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Это удобный и надежный способ получить доступ к широкому выбору книг по разным жанрам и направлениям. На сайте вы найдете полную версию книги «Кусочек жизни. Рассказы, мемуары», а также другие книги Тэффи и ее современников. Читайте книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и наслаждайтесь прекрасным стилем Тэффи! 😊