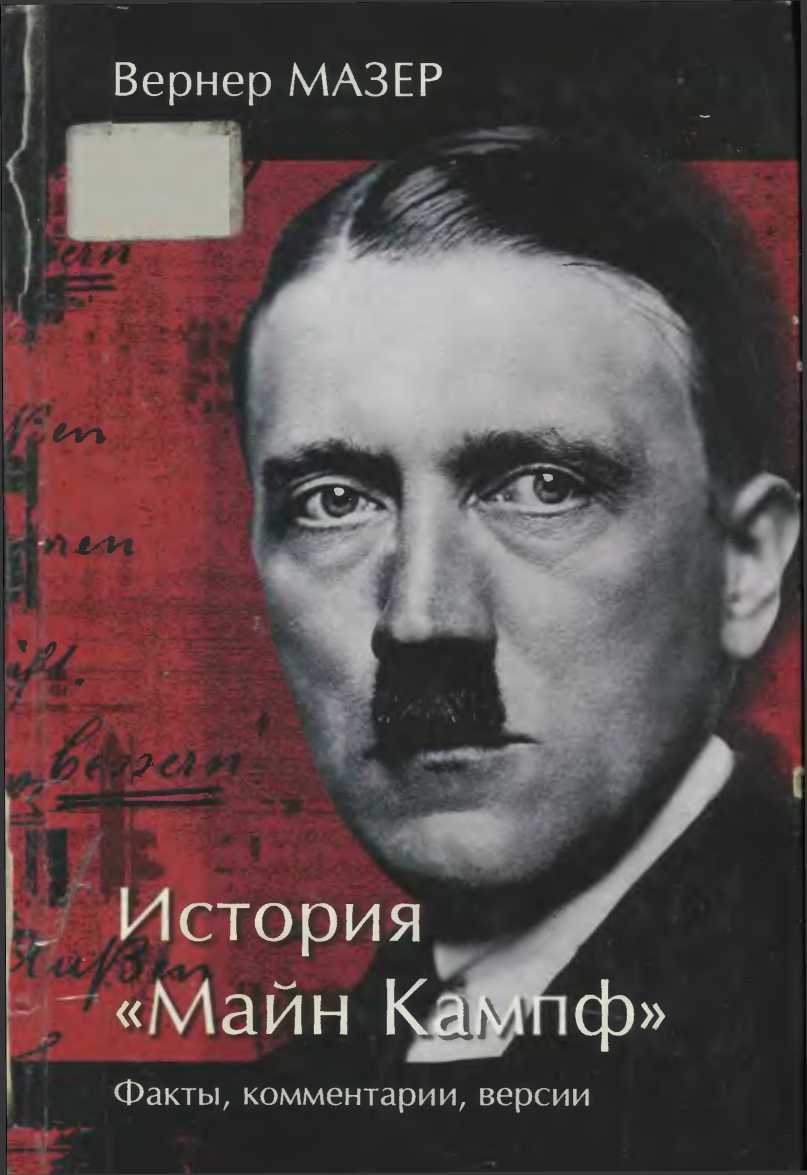Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Герой романа лейтенант Малых призывается после окончания института в армию в качестве офицера-двухгодичника и попадает служить в стройбат. Поскольку срочную он служил в Москве, в одной из элитных частей, то его поражает, если не сказать шокирует, разница между этими «двумя армиями». Тем не менее Малых находит в себе силы противостоять неуставщине и стройбатовским традициям, правда все время задаваясь вопросом, почему это происходит в армии государства, которое к восьмидесятым годам прошлого века должно было «в основном построить коммунизм».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Александрович Трахимёнок»: