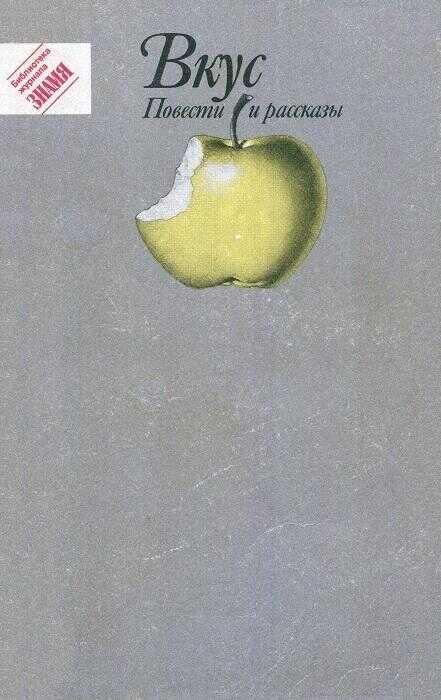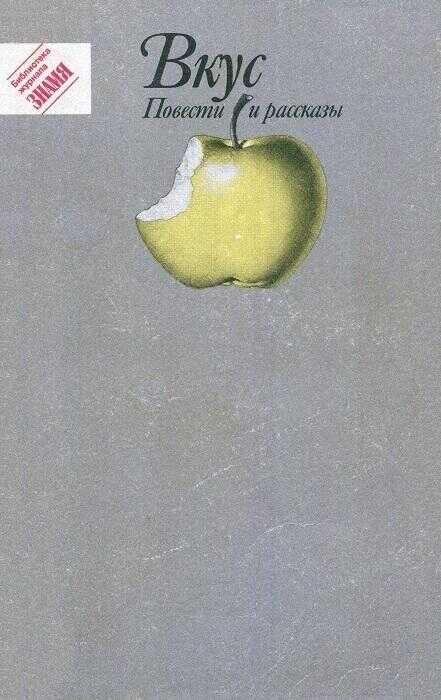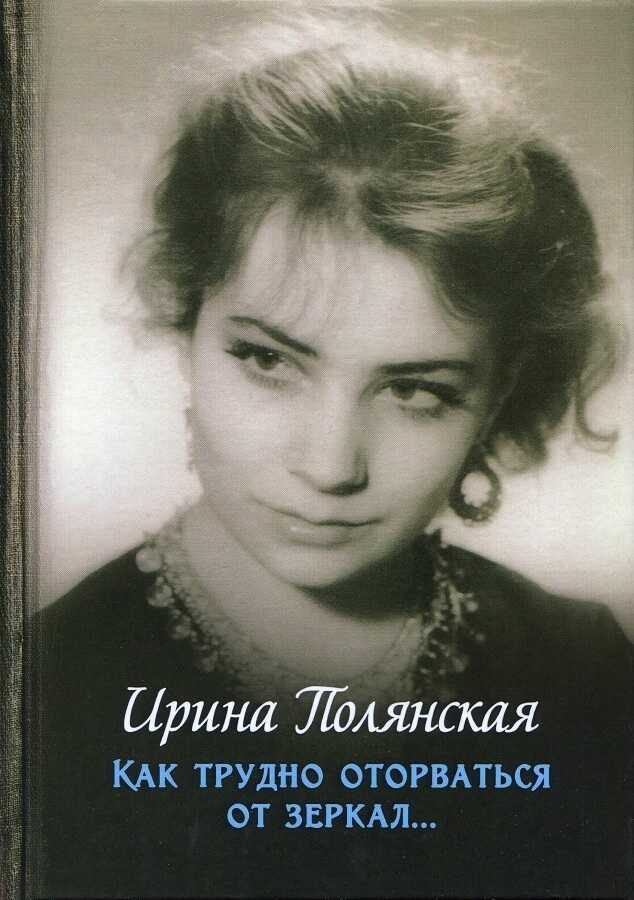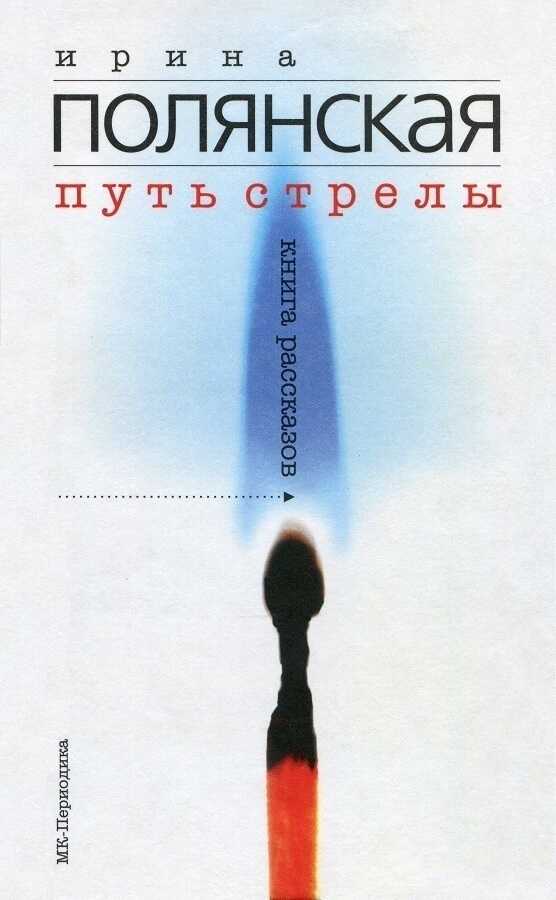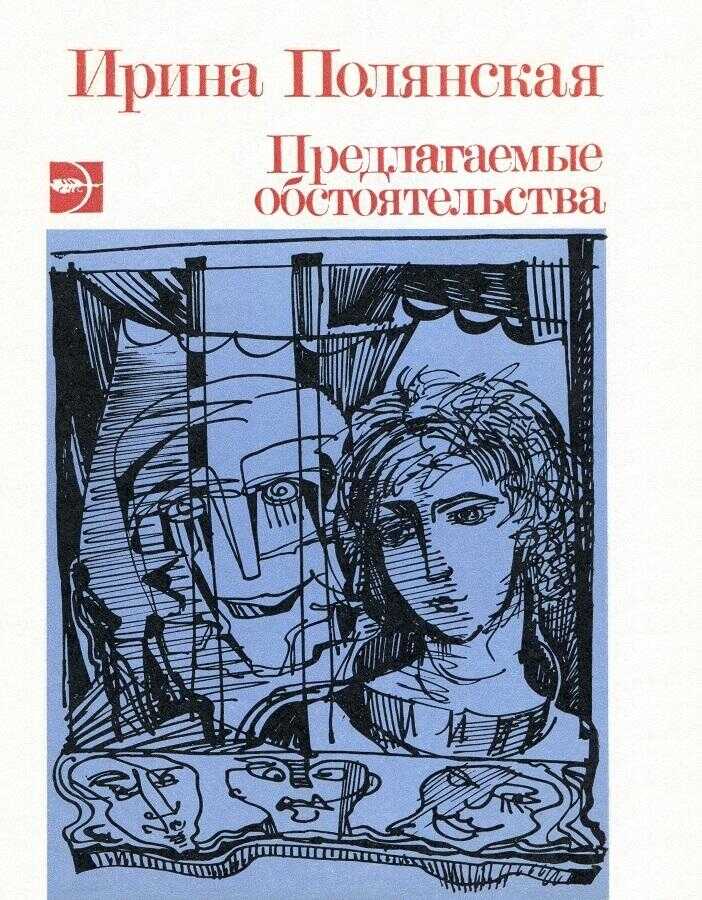Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман Ирины Полянской «Прохождение тени» — музыкально-виртуозная, пластичная проза с очень сильным исповедальным элементом. В нем рассказывается о причудливой дружбе героини — студентки музыкального училища с четверкой слепых музыкантов. Девушка становится для них чем-то вроде поводыря, проводника в мире, где границы знания о самих себе размыты, а загадки человеческого сердца всегда останутся тайной. Параллельно главной линии развивается другая, семейная, тяготеющая к лучшим образцам «женской прозы». В центре ее «поединок роковой», заполнивший всю жизнь матери и отца, талантливого ученого, его судьба во многом повторила судьбу Н. Тимофеева-Рессовского. В книгу включены также рассказы И. Полянской.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирина Николаевна Полянская»: