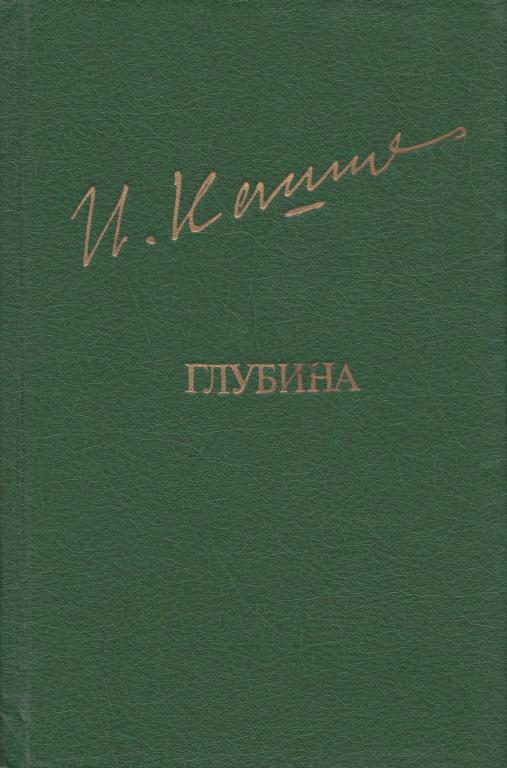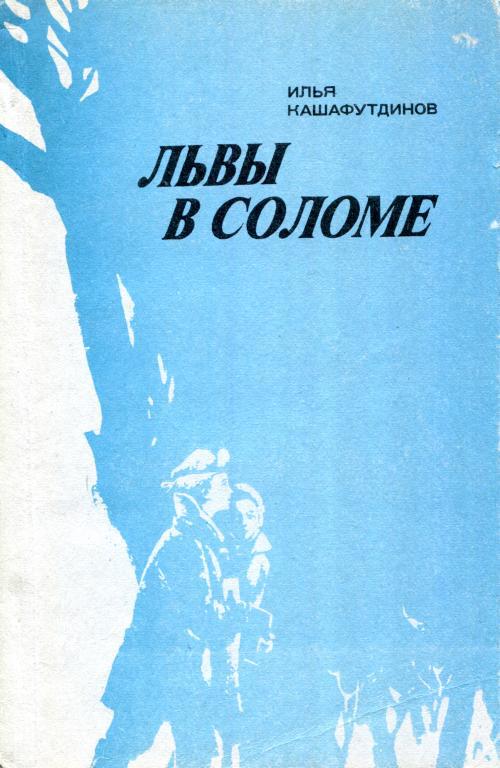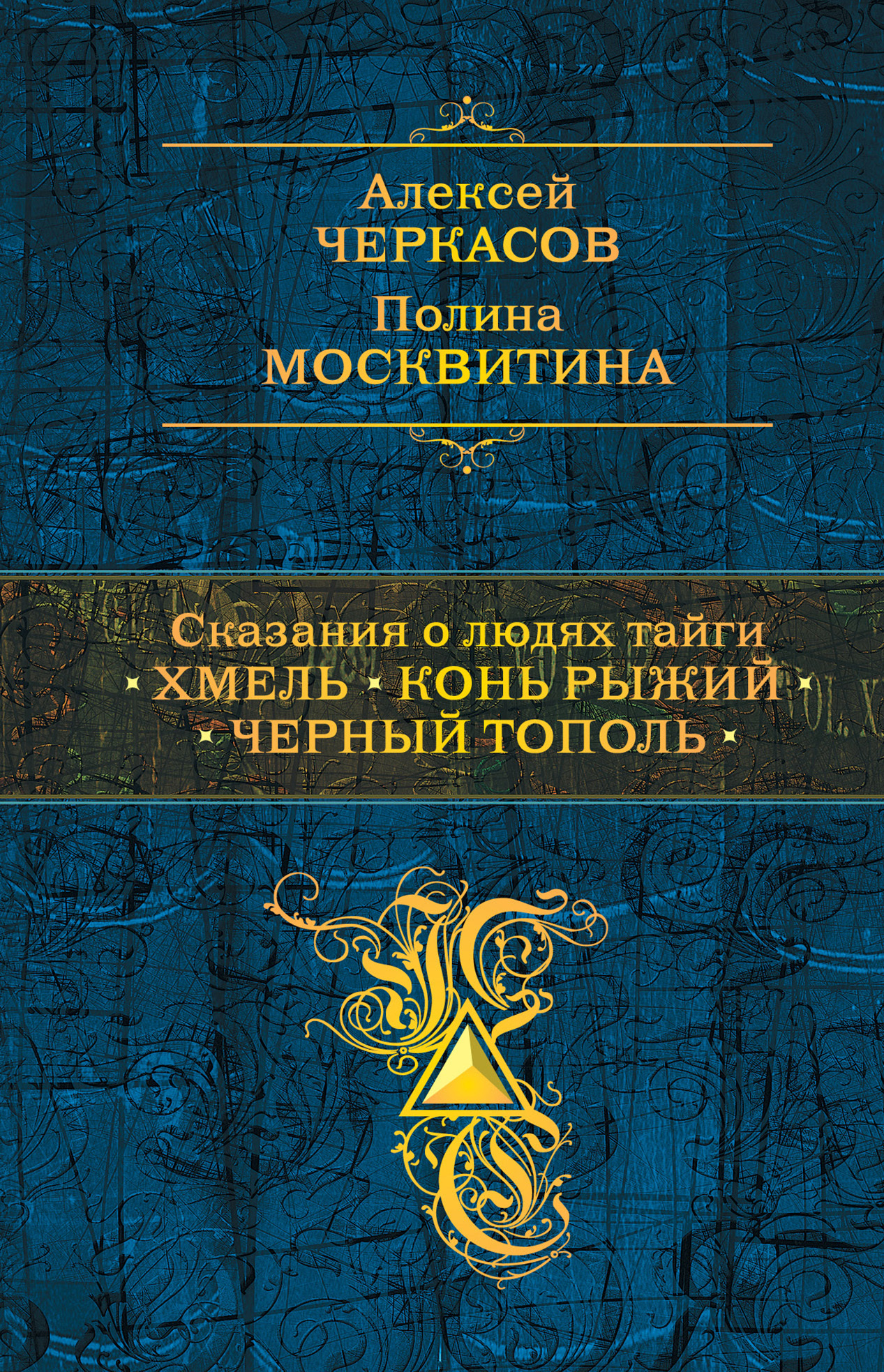Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Герои повестей и рассказов Ильи Кашафутдинова — сельские жители, горожане, моряки, физики-атомщики, живущие трудами и заботами наших дней. Характеры современников показаны в интересных жизненных ситуациях. Эстетическое кредо писателя — утверждение подлинного товарищества, силы добра и красоты, отрицание потребительского отношения к духовным ценностям нашего общества.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ильгиз Бариевич Кашафутдинов»: