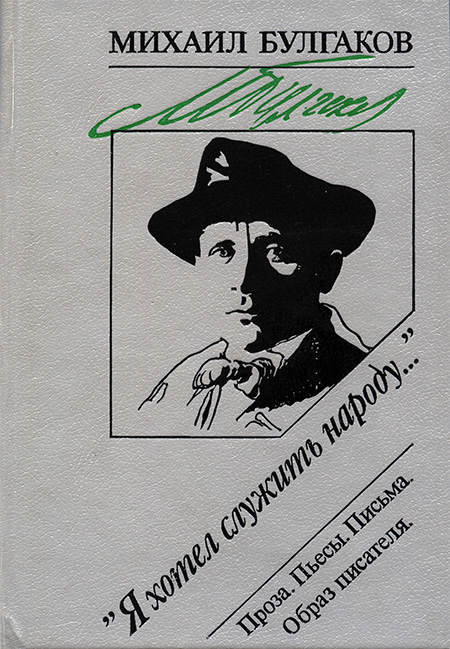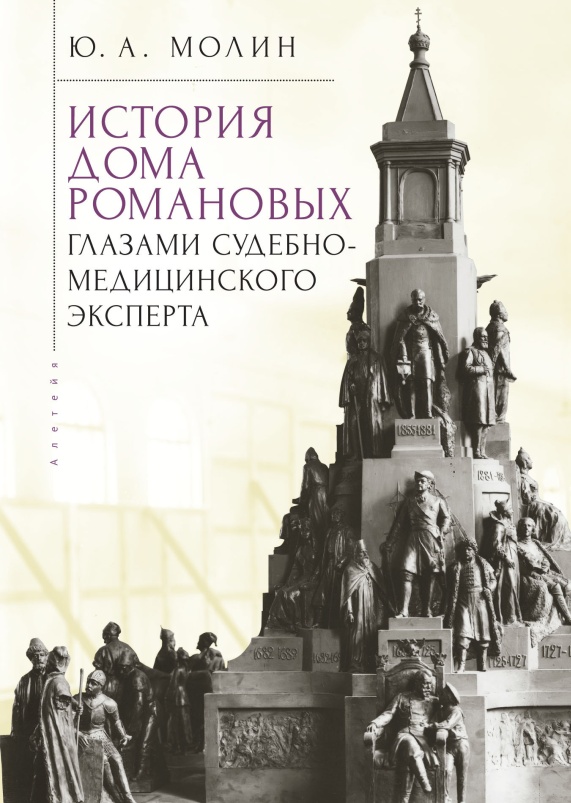Шрифт:
Закладка:
Надежда Александровна Лохвицкая – известная русская писательница, поэтесса и мемуаристка, жившая в конце XIX – начале XX века. Она была свидетельницей и участницей многих событий русской истории, таких как революция 1905 года, Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, эмиграция. Она познакомилась и подружилась с многими знаменитыми личностями своего времени, такими как А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.И. Куприн, М.А. Волошин, И.А. Бунин и другие.
В своей книге «Моя летопись. Воспоминания» она рассказывает о своей жизни и творчестве, о своих впечатлениях и переживаниях, о своих мыслях и чувствах. Она делится с читателем своими наблюдениями за общественной и культурной жизнью России и Европы, за развитием литературы и искусства, за судьбами своих друзей и знакомых. Она не скрывает своего отношения к разным политическим силам и течениям, к царской власти и революционерам, к белым и красным, к родине и эмиграции. Она пишет о своих радостях и горестях, о своих любвях и разочарованиях, о своих надеждах и страхах.
«Моя летопись. Воспоминания» – это книга для тех, кто хочет узнать больше о русской литературе и истории, о женском взгляде на мир, о человеческой душе и ее тайнах. Это книга для тех, кто любит читать книги онлайн. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com