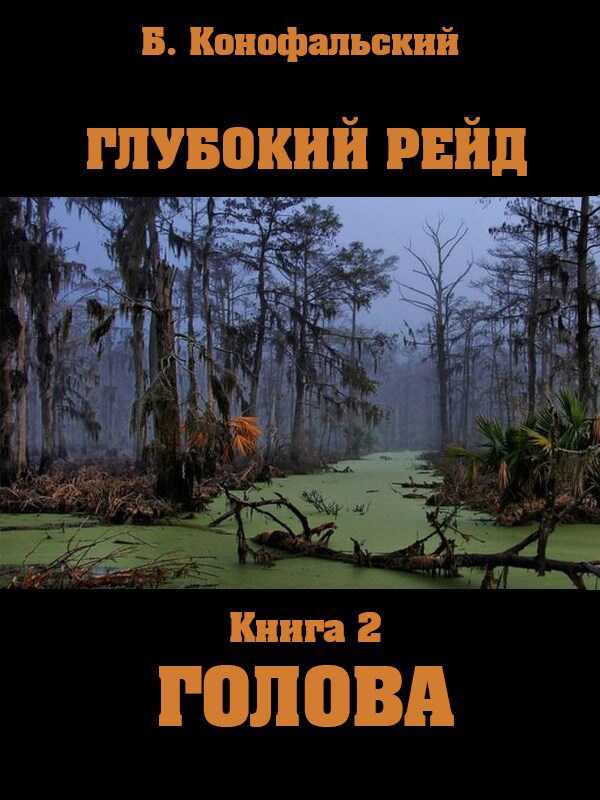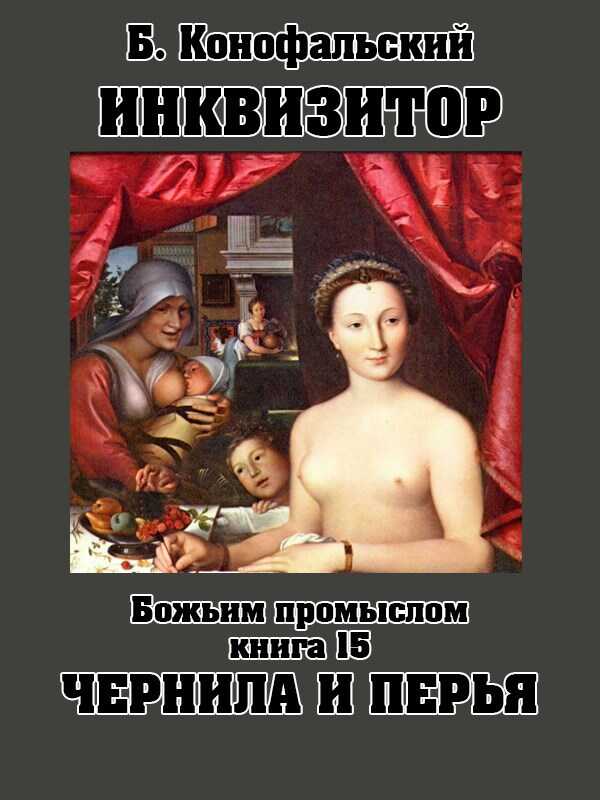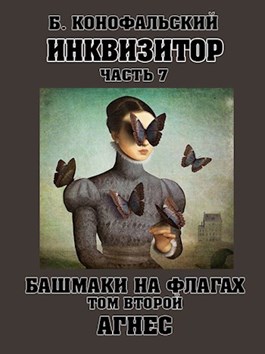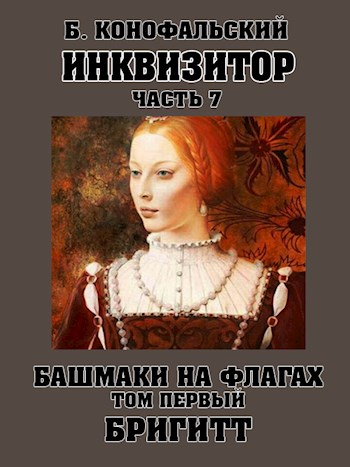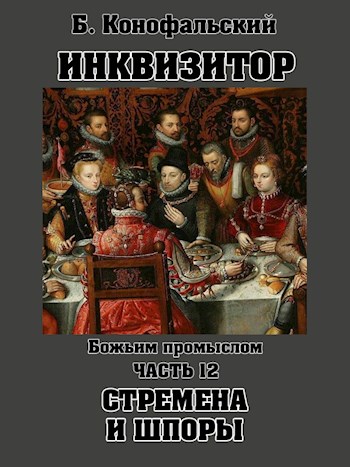Шрифт:
Закладка:
Книга «Длань Господня» - это исторический роман Бориса Вячеславовича Конофальского, русского писателя и журналиста. Это книга о том, как один человек стал свидетелем и участником великих событий XVII века, о том, как он искал свое место в мире, о том, как он встретил свою любовь и свою судьбу.
Главный герой книги - Андрей Леонтьевич Леонтьев, молодой дворянин, который живет в Москве во времена Смуты. Он мечтает о славе и приключениях, но не знает, на чью сторону встать в борьбе за русский престол. Он попадает в разные лагеря: то он служит у самозванца Лжедмитрия I, то у его соперника Василия Шуйского, то у польского короля Сигизмунда III. Он также путешествует по Европе, посещая Польшу, Германию, Францию, Испанию и Италию. Он знакомится с разными людьми: от простых крестьян и казаков до знатных бояр и королей. Он видит разные чудеса и ужасы: от красоты искусства и природы до жестокости войны и инквизиции.
В ходе своих приключений Андрей Леонтьевич Леонтьев встречает свою настоящую любовь - Марию Михайловну Романову, дочь царя Михаила Федоровича. Она становится для него Дланью Господней - символом веры, надежды и любви. Она также становится для него опасностью, так как ее родственники и враги не хотят видеть ее с ним. Андрей Леонтьевич Леонтьев должен принять решение: остаться с Марией или покинуть ее ради своей безопасности.
Книга «Длань Господня» - это захватывающий и трогательный роман о том, как один человек пережил трудное и интересное время в русской истории, о том, как он нашел свой путь и свое счастье. Это книга о том, как важно следовать своему сердцу и своему Богу. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com