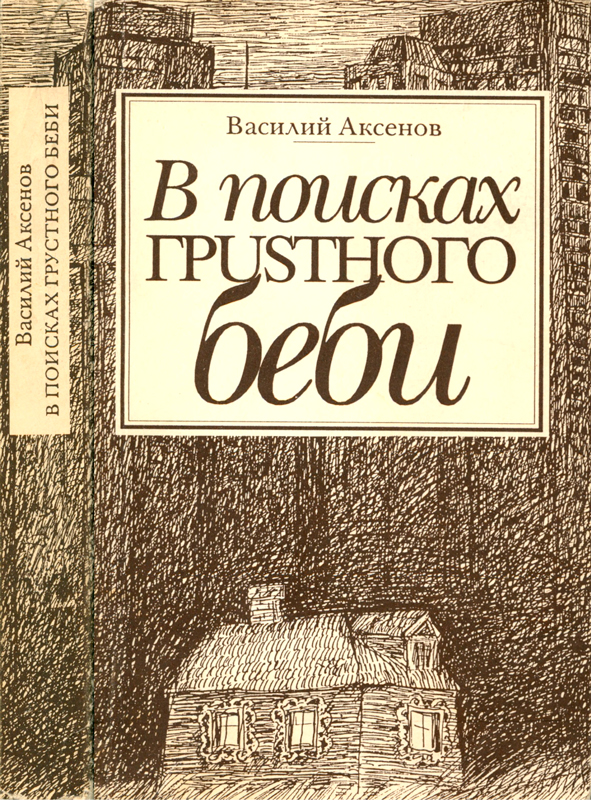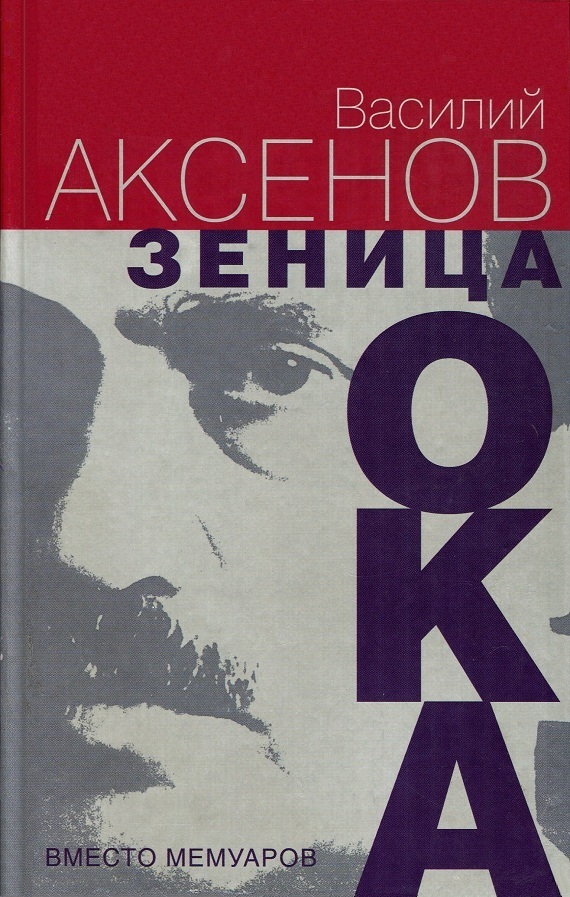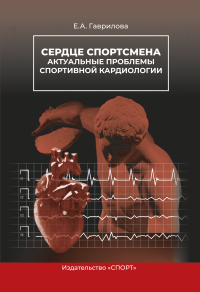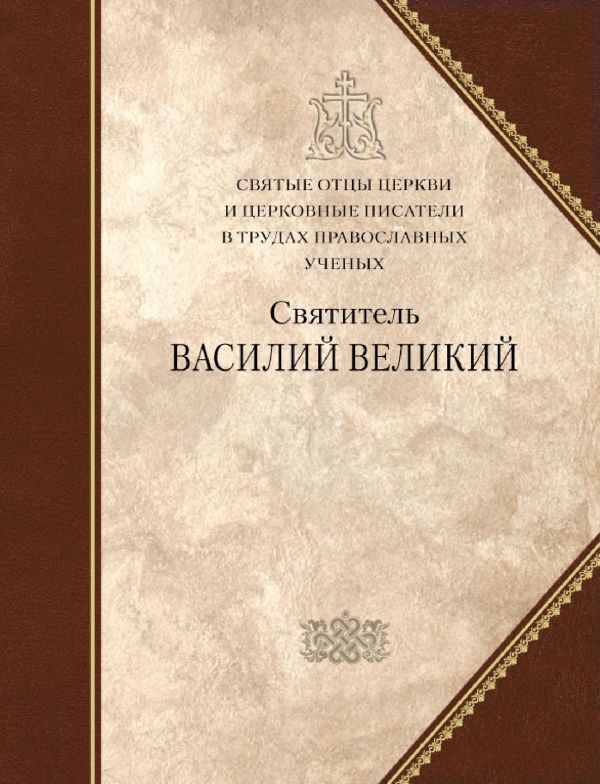Шрифт:
Закладка:
Эта книга объединяет два произведения известного русского писателя Василия Аксенова, посвященные его впечатлениям от жизни в США. Первое - «Круглые сутки non-stop» (1976) - это своеобразный дневник, в котором автор рассказывает о своих путешествиях по разным штатам, о своих встречах с интересными людьми, о своих наблюдениях за американской культурой и обществом. Второе - «В поисках грустного беби» (1987) - это повесть, в которой автор смешивает реальность и вымысел, создавая увлекательный образ Америки как страны контрастов и противоречий. Главный герой повести - русский писатель, который пытается найти своего друга-американца, пропавшего без вести. В ходе поисков он попадает в самые разные ситуации и места, открывая для себя новые стороны американской действительности.
«В поисках грустного беби: Две книги об Америке» - это книга для тех, кто хочет узнать больше о США с точки зрения русского эмигранта, который не боится быть ироничным и критическим, но при этом не теряет любопытства и уважения к другой стране и культуре. Это книга для тех, кто хочет читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com.