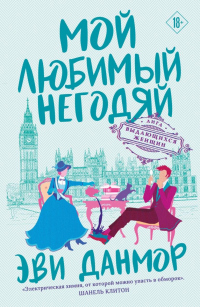Шрифт:
Закладка:
Когда тебе нечего терять, тебе уже ничего не страшно… Софья Перовская организовала убийство царя Александра II. Вера Фигнер была главной обвиняемой по «Делу четырнадцати», а свое последнее слово она превратила в программную речь, изменившую ход истории. Фанни Каплан стреляла во Владимира Ленина, а Екатерина Брешко-Брешковская возглавляла террористическую организацию. Во второй половине XIX века в России произошел всплеск террора, направленного против чиновников. Организаторами убийств и нападений чаще всего были женщины. Почему так вышло? Что толкало их на преступления против человечности? В предлагаемое издание вошли воспоминания самых ярких и известных женщин-террористок, которые, переступив черту закона, не только вписали свое имя на скрижали вечности, но и сумели изменить ход истории.