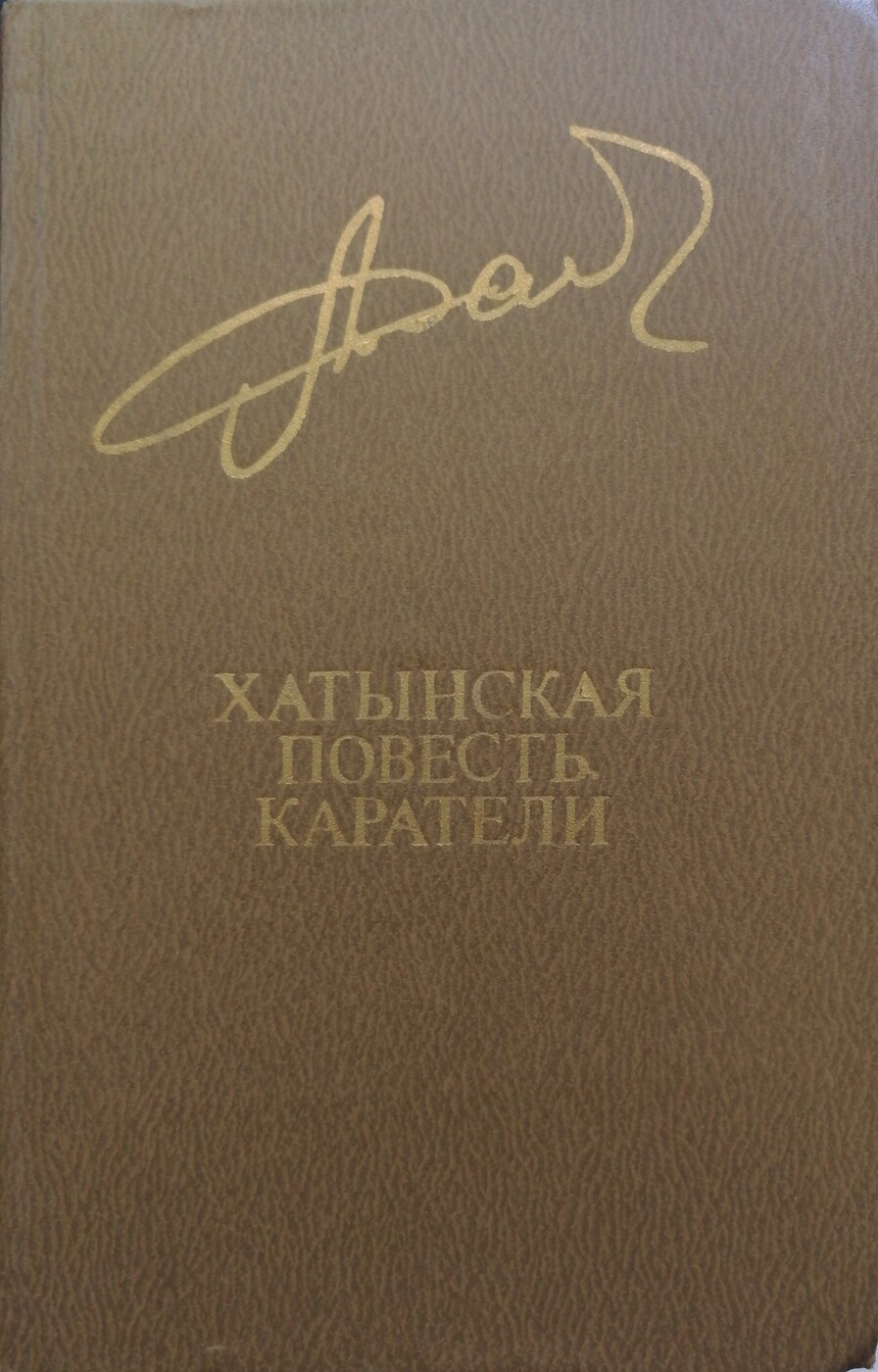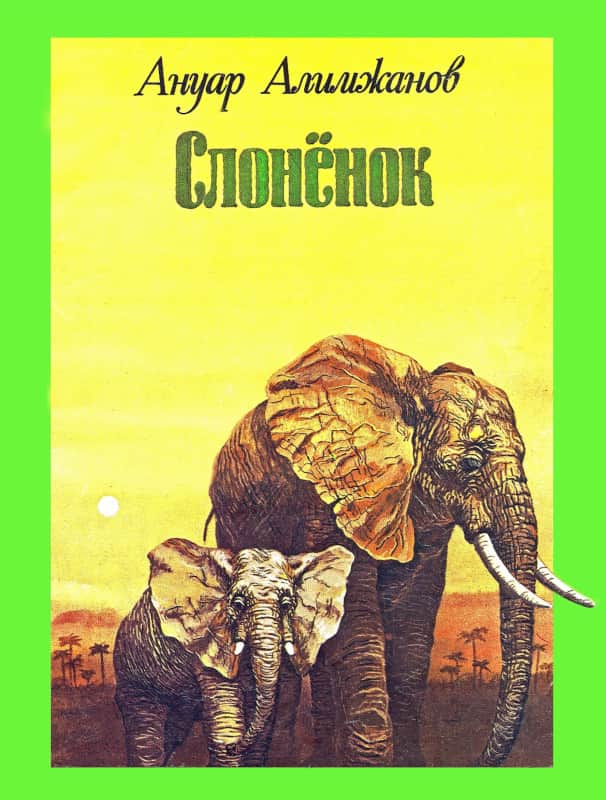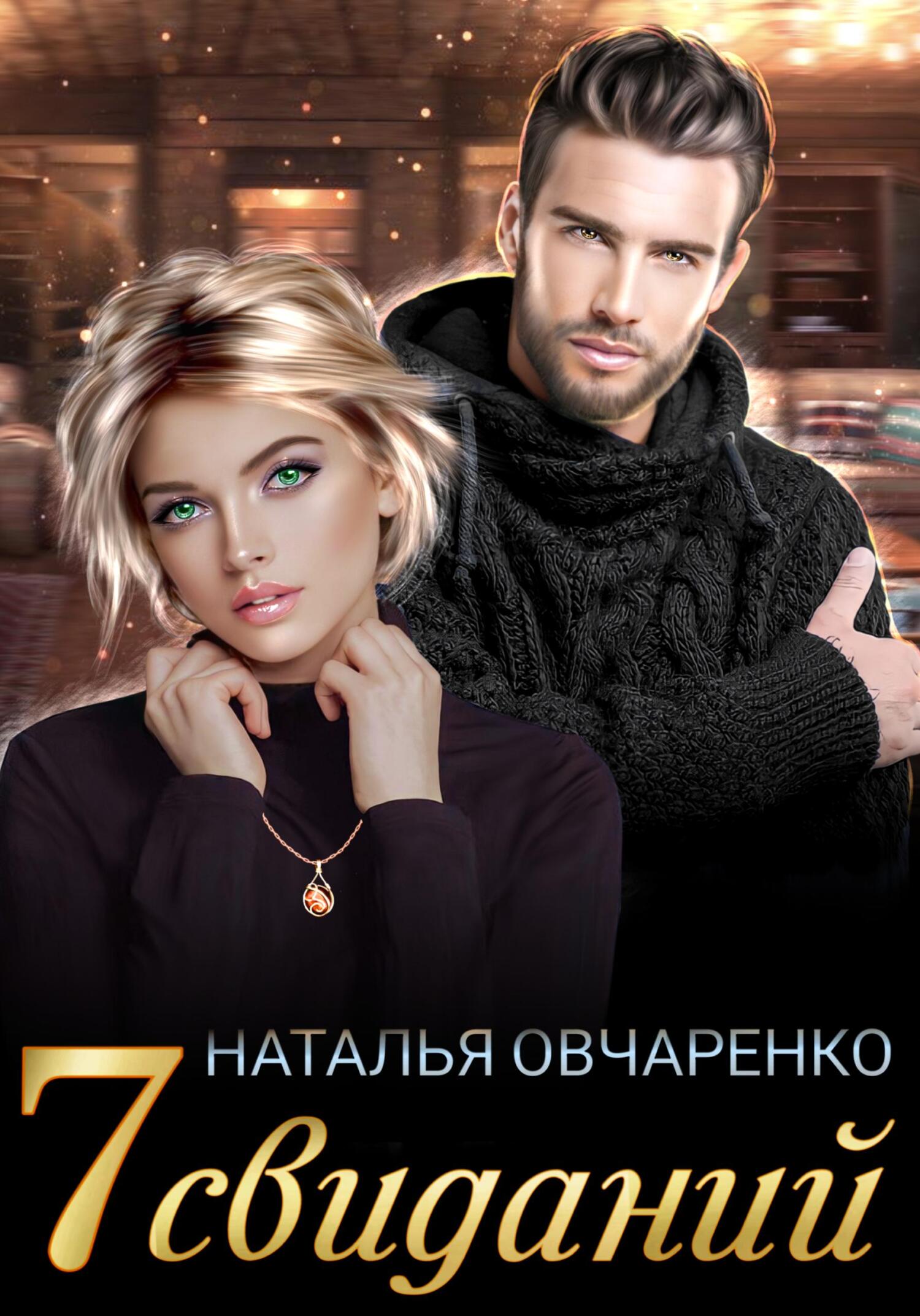Шрифт:
Закладка:
— Вода у вас хорошая?..
— Ага, колодцы у нас глубокие.
— Да, хорошая, холодная. Глубокие, говоришь?
Сказал ты, дядя, а что сказал, не знаешь. Глубокие — это Доливан любит, штурмбанфюрер. В любой деревне обязательно заглянет в колодец — первым делом. Не надо время терять, ямы копать…
— Много мужиков осталось в Борках?
— Да есть! У нас и полиция своя. Немного, правда, но своя.
— Сколько немного?
— Да десять или больше.
— Это на семи поселках? Отвалили, нечего сказать! А ты почему не вступил? Привыкли, чтобы кто-то за вас.
Хозяйка встрепенулась, как курица. Сейчас скажет, что он больной, хворый, неудалый, порченый…
— У него груди слабые.
Ну вот, как по писаному. И грех и смех с вами. И на-злишься и повеселишься. Вот удивятся француз и его дружок, если я сейчас выйду из тихой хаты. Как вошел, так и вышел: нате вам ваше сало, сачки!
— Ну, что молчишь там, старая? Рассказывала бы им про куру-рябу. Скоро столкнут тебя с печи внуки: сколько их у тебя?
Улеглась по краю печи: это она уже загородила их, она уже их спасет!.. Наперед все знаешь, но почему-то всякий раз тянешь, затягиваешь, рассматриваешь их, и им даешь себя рассмотреть. А они слушают твой голос, а сами стараются не прозевать тот момент, самый главный. Молчат, а шепот из всех углов: уходи! уходи! уходи!
На сундуке маленькая, чистенькая, беленькая, хоть в гроб клади, старуха, личико морщинистое, как у Доброскока, она все на окна смотрит, там слушает и других заставляет слушать:
— Ой, детки, стреляють! Ой, чегой-то они там? Курей стреляють?
Говорит, спрашивает, смотрит, и так ей хочется поверить, что это курей стреляют. И за тебя боится, будто ты и не полицейский с пулеметом, а тоже с ними и тебе тоже страшно. Заранее все знаешь. Заранее. И они тоже стараются не пропустить момент, когда ты перестанешь кружить перед ними и говорить, говорить… И всегда этот момент неожидан для них. Да и сам всякий раз поражаешься, как все меняется сразу, стоит нажать пальцем. Вот этим пальцем… Отгрохочет на твоих руках «дегтярь», а все уже по-другому. Лежат, поджав коленки, локти или раскинувшись так, что и захочешь — не придумаешь специально, и вместе с тобой удивляются, что все-таки произошло… О, лампадка у вас, зажгли: значит, знали, что я приду! Бородатый, как колхозник, бог что-то держит в щепоти. Посоли, посоли! А я добавлю…
— Вот так: до бога высоко, Сталин далеко, а немцы тут! Видите, как получилось!
Отступить за стол, подальше, чтобы видеть всех и повыше — и тех, что за бабку на печи спрятались. Но начать с мужика. А после вернуться и пройтись под кроватью. Хорошо — прямая линия: от дядьки по кровати, сундук, печь, назад тем же путем и — вот-от где вы, голубчики! вот где мы вас нашли! ну, и много вас тут, под кроваткой?..
Всегда лучше бить от порога, но печь мешает. Всегда спокойнее, когда дверь спиной чувствуешь. Но тогда печь не твоя, придется прерывать на половине и снова начинать. А те слушают на улице, ждут: пусть услышат одну очередь, только одну: битте, принимай работу! Это тебе не лягушек потрошить!..
— Что ж вы советские иконы сняли? Спрятали отца и учителя?
— Кого?
Ишь забыл, уже не помнит, уже не понимает!
— Царские вывесил и думаешь — немцу понравится? А того не знаете, что это — Янкель!
— Кто?
— Кто, кто! Христос ваш! Янкель, только крещеный. Но немцы на это не смотрят: крещеный не крещеный.
Если по совести, так не очень и поймешь немцевы дела с богом, с попами, с церквами. Вроде как и разрешают, даже открыли и там, и там, а сами, когда на политзанятиях выступают, кроют и бога и евреев одними словами. Немецкий бог называется по-другому, Гитлер его часто в речах поминает: привидение! привидение!.. Черт их там разберет! Зато штурмбанфюрер, если увидит церковь, если где уцелела, — готов креститься на радостях. Дерево старое, сухое, краской, олифой пропитанное, — горит, как солома. И люди спокойнее себя ведут, легче, охотнее заходят, идут в такое здание — не то что в амбар или в школу. Надеются, что и немцы в бога верят. Верят, да не в вашего…
Все знаешь заранее. А рассчитать, как все получится, чтобы точно знать, — не всегда удается. Так и жди, что-то помешает или кто-то. Без спешки надо все рассмотреть, прикинуть, обдумать. Ни разу не было, чтобы без фокусов. Вдруг как проснутся — в окно сиганет, побежит, закричит, и тут уже не до порядка, лупишь, лишь бы осадить панику, свалить в кучу. А то и свой олух что-то не так, по-дурному сделает — взбудоражит, распугает. И тогда свету белому не рад будешь. И кровью, и соплями измажешься. Только злость лишняя. А чего, если подумать, злиться? Сами виноваты, работать не научились.
Нужен подход к людям, и все будет чин чином.
— Ну, а где эти, где мужики ваши? Что ж не держите, бабки, при себе?
. — Много вас удержишь! Вот тебя…
О, тут и румяная да круглая есть, не сразу и заметил. И улыбается, пробует улыбаться. Не на того ты нарвалась! Такое с Кацо может пройти или еще лучше — с моим вторым номером. Это их хлеб. Свой я сам заберу. Который в печи. «Спячэцца живот и спруцянеешь…» — старушка давно сама «спруцянела», а я — вот он…
— Что я, я на виду, не прячусь, а вот ваши парти-и-за-ны!.. А ты, борода, что в банду не пошел? Или ты и дома и замужем?
— Мне и дома добра!
Ого, гневается уже, интересно!
— Ну, а в полицию почему? Что ж не записался?
Сказать ему нечего. Зато румяная молодка не молчит, голосок не пропал еще.
— Какая тут в Борках полиция? Смех один! Только где самогонка, там они. А как ночь, попрячутся. Придет к тебе и сидит сычом у окна, никого даже до ветру не выпускает. Это он боится, что… этих самых приведут. Ну, партизан. А кому он нужен такой?!
— И верно, сидит квашней всю ночь, когда