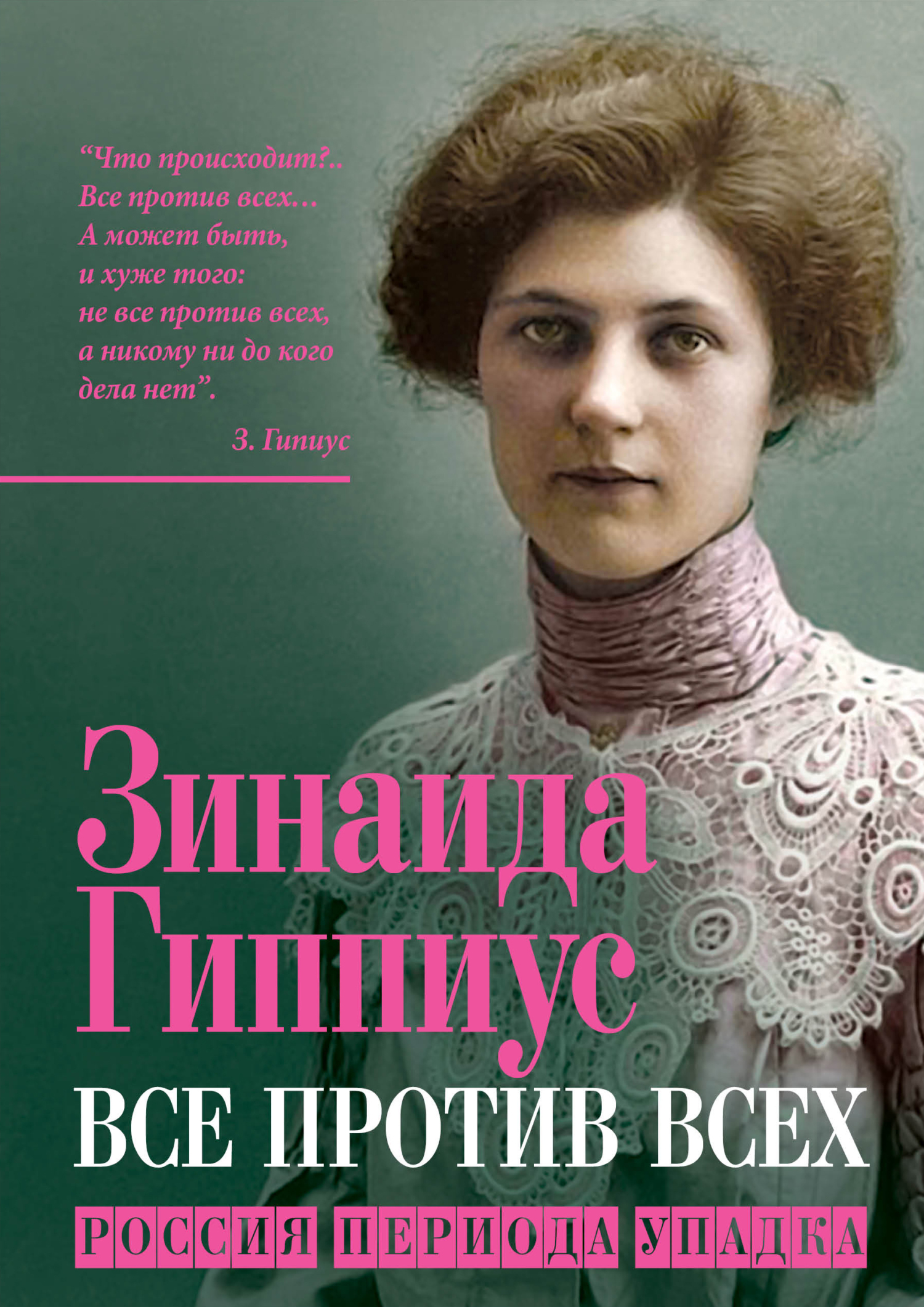Шрифт:
Закладка:
Воспоминания – те же письма, с той разницей, что письма пишут конкретному адресату (частному лицу), воспоминания же, письма к вечности, если угодно, к другому себе. К себе, которого, возможно, уже и нет вовсе.Зинаида Пастернак, Нейгауз, по первому браку, подавала надежды как концертирующий пианист, и бог весть, как сложилась бы история ее, не будь прекрасной компании рядом, а именно Генриха Густавовича Нейгауза и Бориса Леонидовича Пастернака.Спутник, как понятие, – наблюдающий за происходящим, но не принимающий участия. Тот, кто принимает участие, да и во многом определяет события – спутница.Не станем определять синтентику образа Лары (прекрасной Лауры) из «Доктора Живаго», не станем констатировать любовную геометрию – она была и в романе, и в реальности. Суть этой книги – нежность интонаций и деликатность изложения. Эти буквы, слова, предложения врачуют нездоровое наше время, как доктор. Живой доктор.



![Deja Vecu [Уже пережитое] - Георгий Евгеньевич Кузьмин](/uploads/posts/books/5203/5203.jpg)