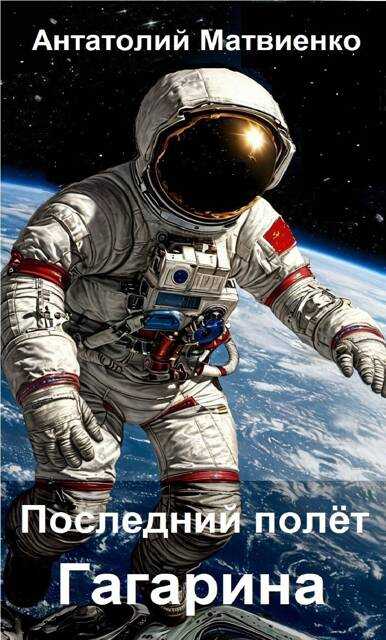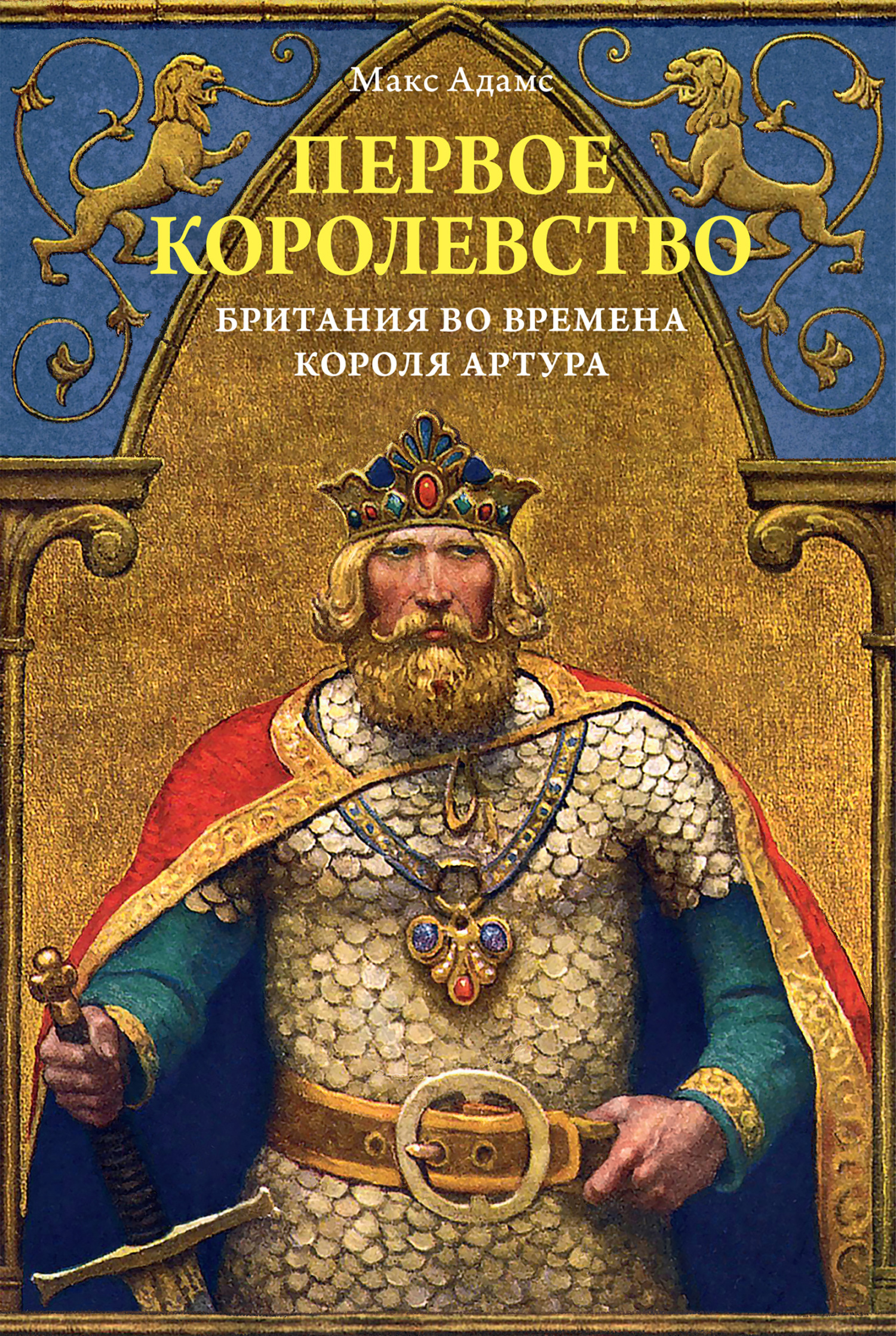Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Продолжение серии "Штуцер и тесак" Анатолия Дроздова. Восстание декабристов победило. Плодами революции воспользовались негодяи и установили тиранию. Платон Сергеевич Руцкий вынужден вновь вмешаться в российскую историю.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анатолий Евгеньевич Матвиенко»: