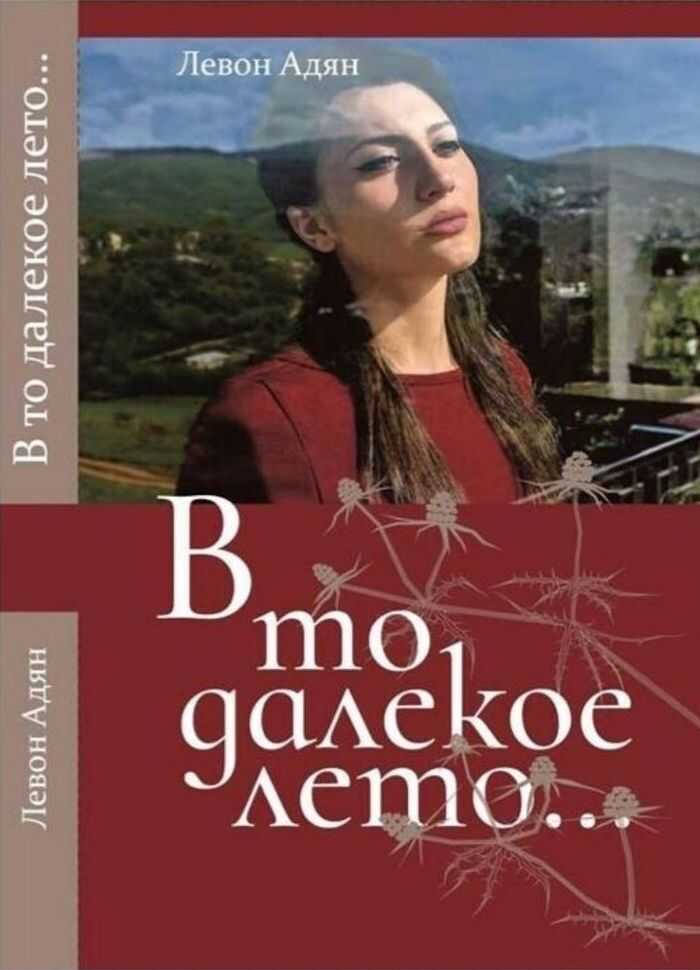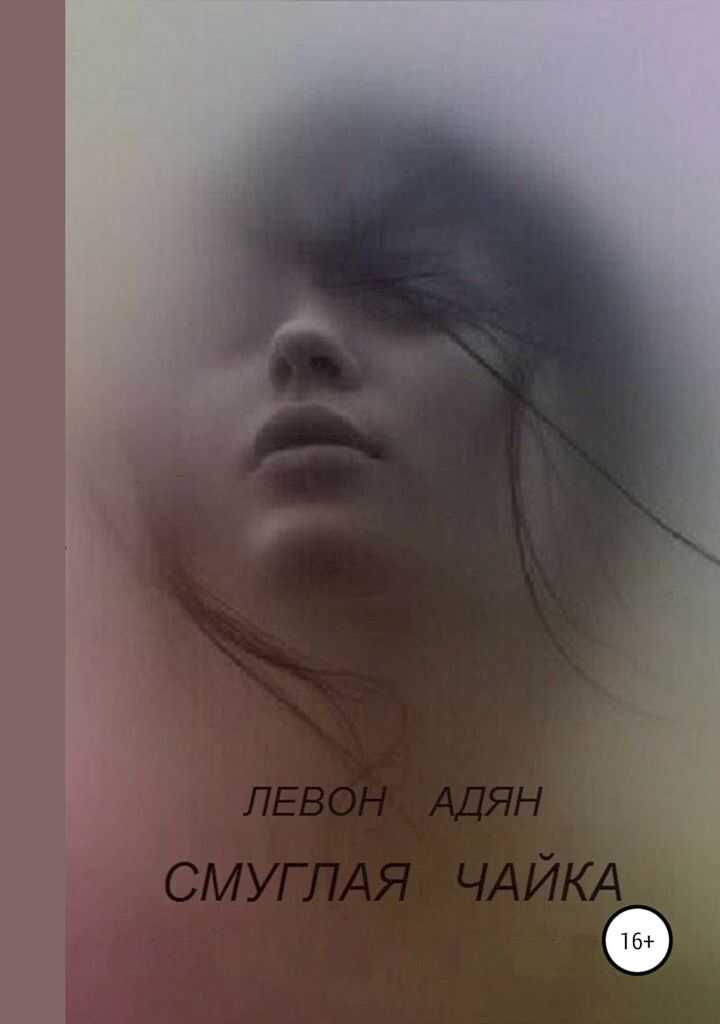Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В этих рассказах и повестях автор не делит людей на хороших и плохих, на друзей и врагов. Для него все люди — творения Бога, приносящие радость и разочарование; помогающие расти, развиваться, закалять дух… ибо смысл жизни в первую очередь следует искать в духовной категории. С каждой строкой произведений автора мы погружаемся в мир горного края под названием Нагорный Карабах, где со времён Страбона хлеб родится из зерна, выпавшего с колоска; пчёлы роятся на деревьях, а мёд течёт с листьев.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Левон Восканович Адян»: