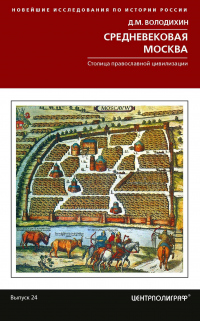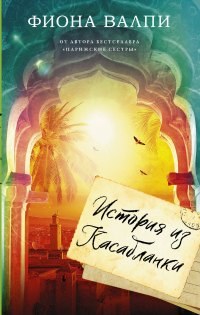Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Стремление любить и быть любимым – это так естественно в семнадцать лет! Мальчишка ищет свою любовь, в процессе развенчивая миф, что в СССР не существовало секса, бизнеса, преступности и коррупции.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Борисович Гатин»: