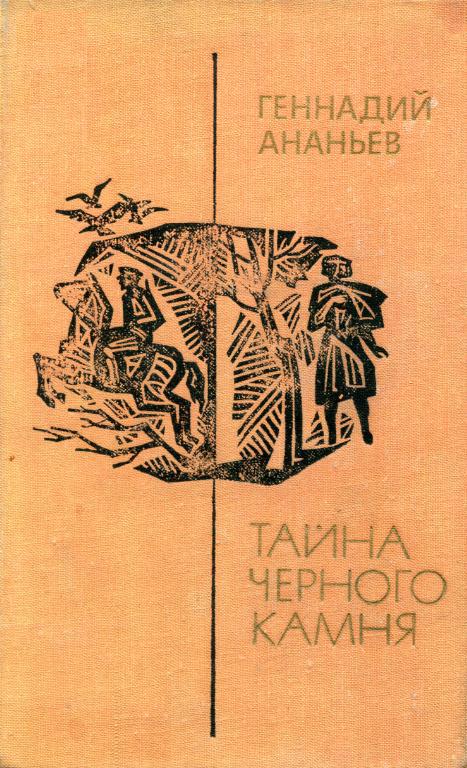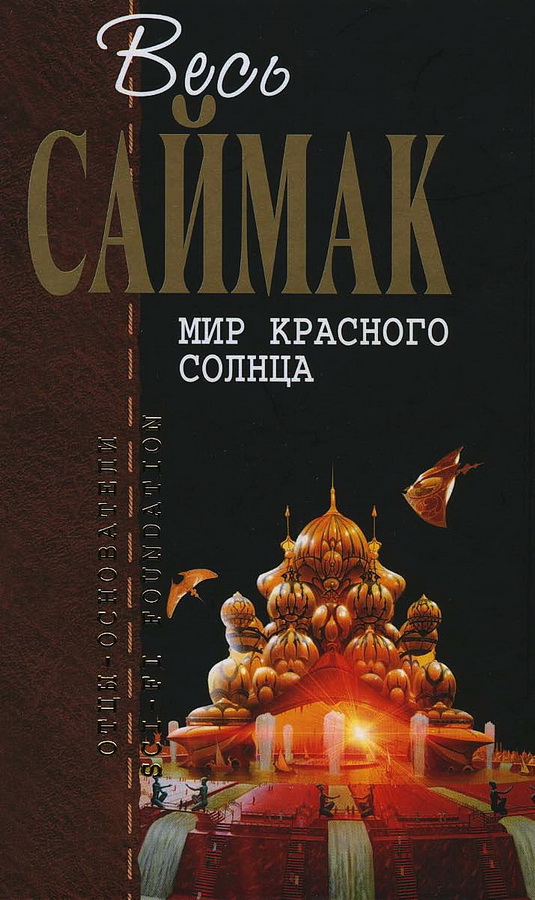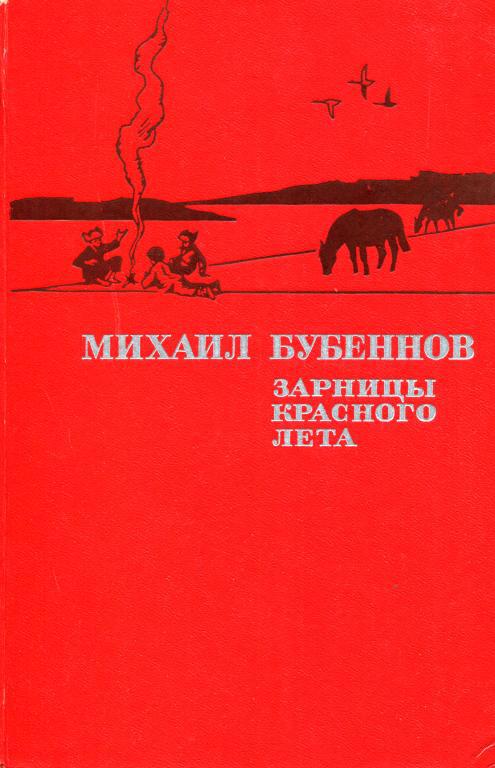Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник вошли повести «Две матери», «Тайфун» и рассказы. Все эти произведения посвящены нелегкой службе воинов-пограничников, стоящих на страже рубежей нашей Родины. Книга рассчитана на массового читателя.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Геннадий Андреевич Ананьев»: