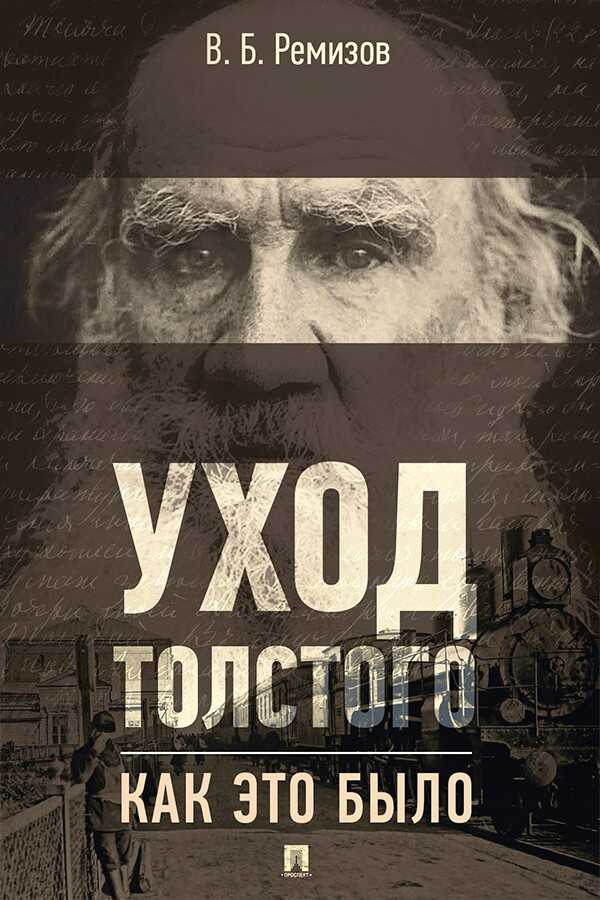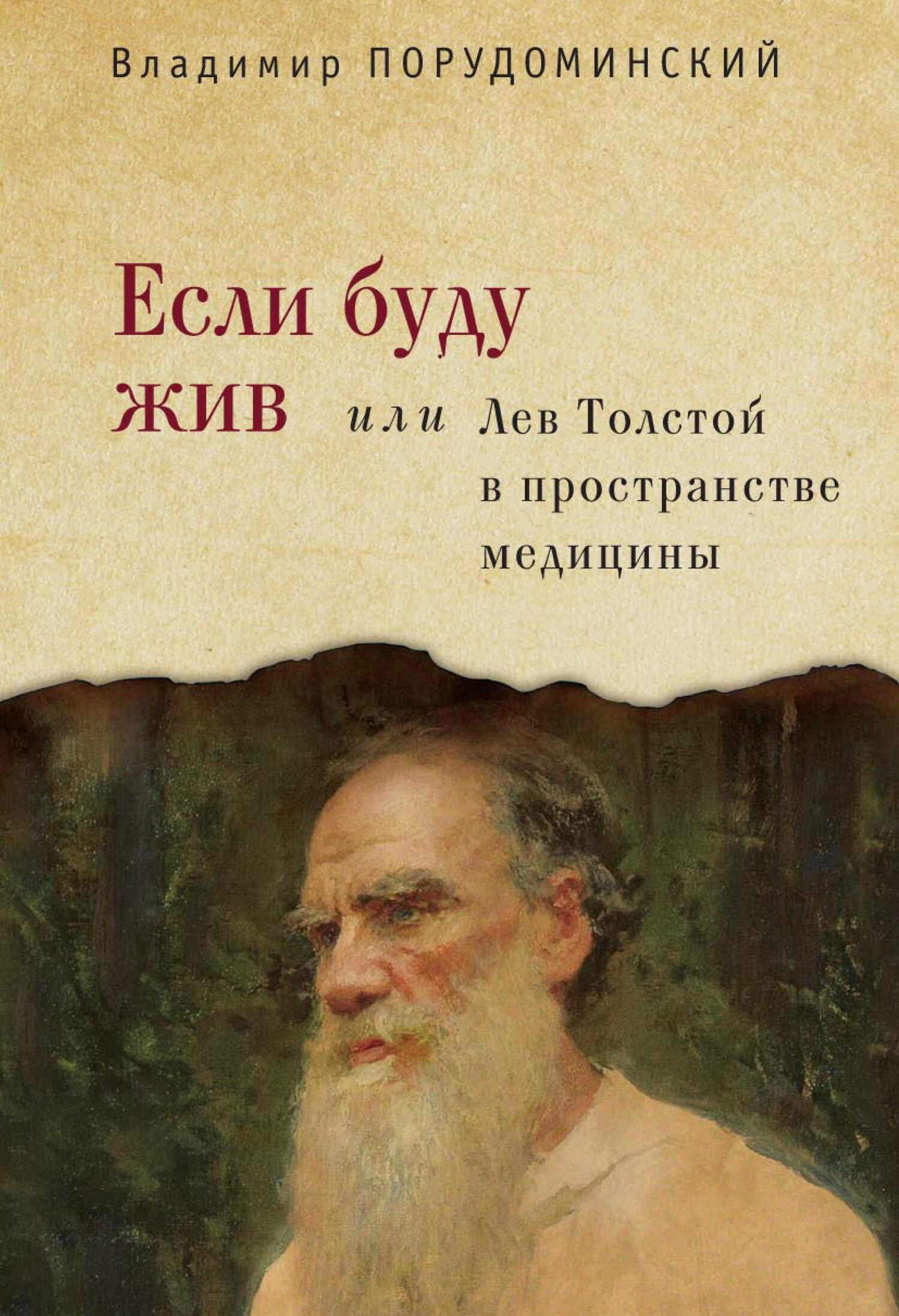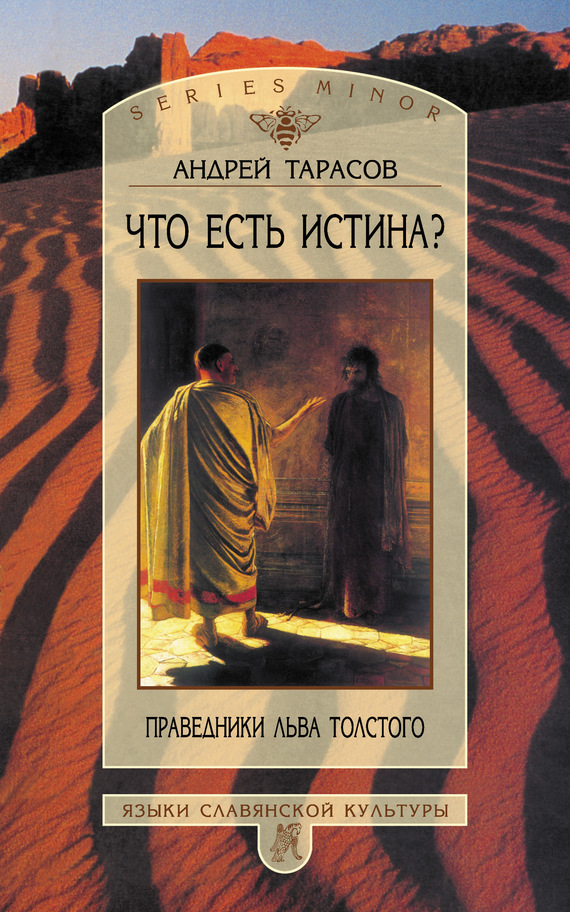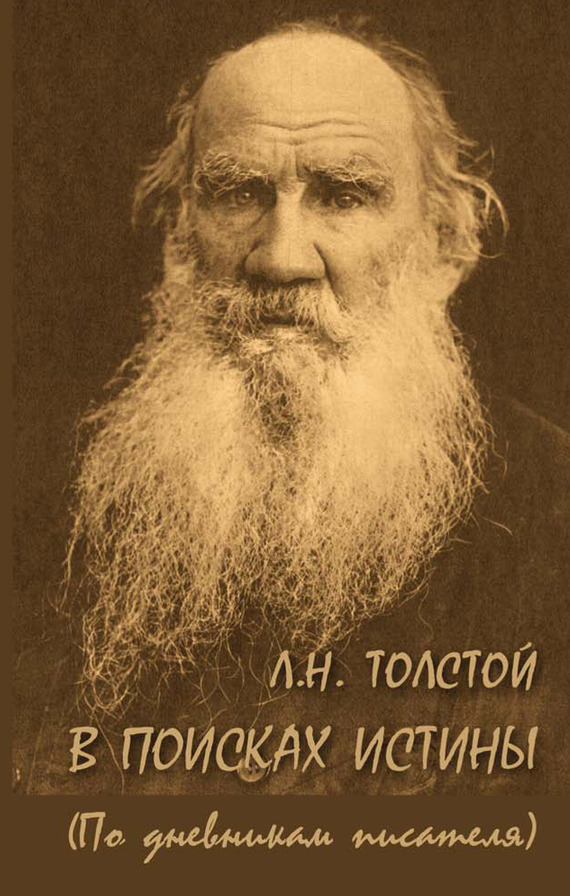Шрифт:
Закладка:
Ремизов В. Б. — литературовед, исследователь творчества Л. Н. Толстого и проблем культуры, кандидат филологических наук; педагог, основатель эксперимента «Школа Л. Н. Толстого», заслуженный учитель России. В 1980-е гг. — доцент кафедры русской литературы Воронежского государственного университета; в дальнейшем — профессор, заведующий кафедрой духовного наследия Л. Н. Толстого Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. Работал в музее-заповеднике «Ясная Поляна» заместителем директора по научной работе. С 2001 по 2012 г. — директор Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва). Лауреат премии Правительства Российской Федерации; почетный доктор наук Воронежского государственного университета; почетный член Российской академии художеств. Награжден орденом Почета и орденом «Слава России». В книге впервые представлена развернутая хроника последних месяцев жизни Льва Толстого: с 19 июня по 7 ноября 1910 г. Построенная на подлинных материалах — дневниках, письмах, документах, мемуарах участников событий, — она передает неповторимость каждого дня, создает условия для объективного и правдивого восприятия смысла происходящего. Читателю предоставлена возможность, минуя многочисленные трактовки и интерпретации, ощутить себя свободным в поисках ответов на сложные вопросы разыгравшейся драмы. Повествовательный ряд обогащен огромным количеством уникальных фотографий из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого.