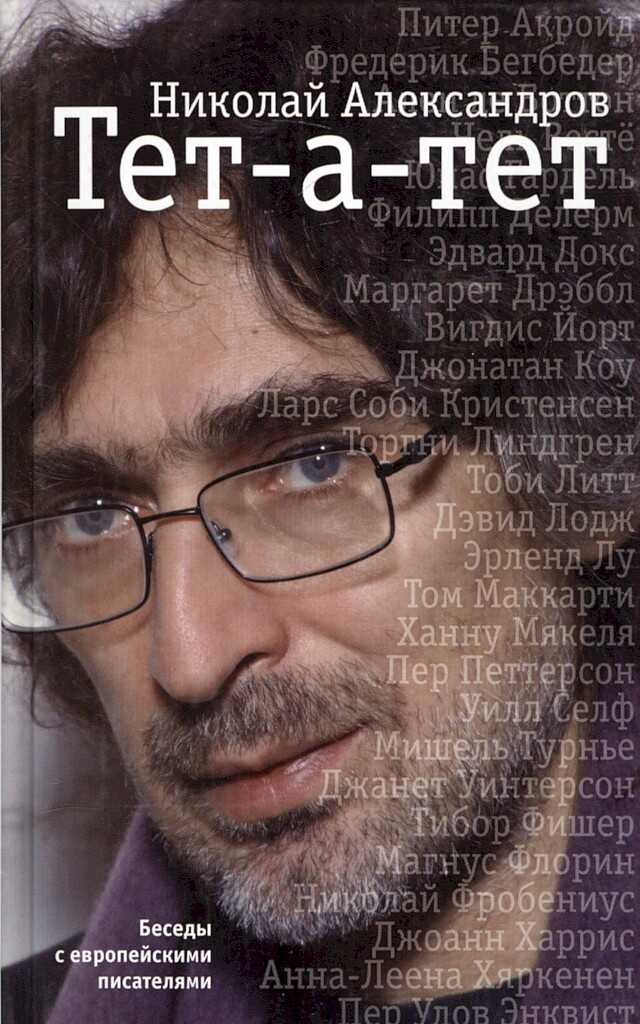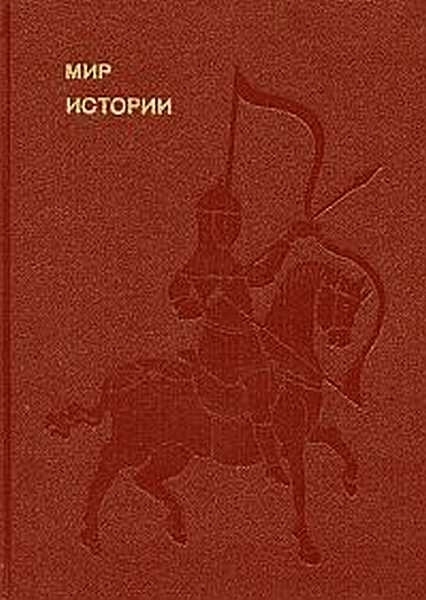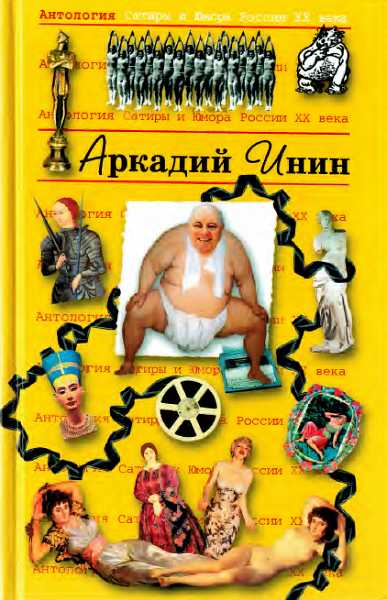Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу литературоведа и критика, ведущего книжных программ «Порядок слов» и «Разночтения» на телеканале «Культура» и программы «Книжечки» на радио «Эхо Москвы» вошли 27 бесед о жизни, творчестве и времени с ведущими современными европейскими писателями, чьи имена и произведения хорошо известны читателям в России.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Дмитриевич Александров»: